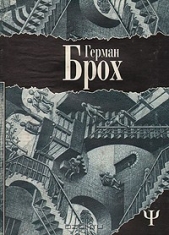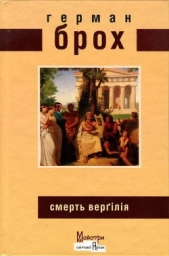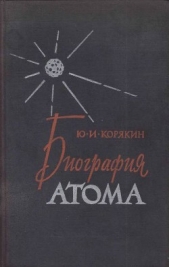Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)
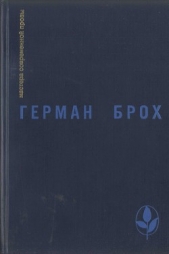
Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия) читать книгу онлайн
Г. Брох — выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входят самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но Вергилий утверждает, что молодежь честнее его! Не можем же мы этого стерпеть!
— Ну и пускай утверждает, что хочет! — заупрямился Плотий в своей непоколебимой дружеской слепоте. — Для меня Вергилий достаточно честен.
— Спасибо, Плотий…
— Просто я люблю тебя, Вергилий… Но именно потому ты уж сделай Луцию одолжение — согласись, что ты честнее этих юнцов…
— Вот это было бы уж совсем нечестно… По-моему, в своих любовных стихах эти юнцы пробились к такой изначальной естественности, какая мне была недоступна… Луций не хочет понять, что всякая реальность зиждется на любви и что за любовной поэзией, которая так ему не нравится, стоит эта великая, изначальная реальность… Реальность — это честность…
Луций протестующе повел перстом, и в жесте этом была даже некоторая брезгливость.
— Для искусства недостаточно вульгарно-житейской честности, Вергилий; только возвышенная любовь, какую изобразил ты, — образцом ее навечно останется любовь Дидоны и Энея, — только такая любовь имеет в искусстве право на существование, а не мелкие любовные интрижки, какими эти недоросли заполняют свои, с позволения сказать, стихи.
Тут Плотий ухмыльнулся.
— Мое дело сторона, но читать их весьма приятно.
— Мы знаем твою страсть к преувеличениям, Луций, но знаем и другое: в поэтическом даре того же Катулла ты отнюдь не сомневаешься, как и любой из нас… Или мне надо тебе особо доказывать, что даже Овидий — настоящий поэт?
— Настоящий поэт? — Луций был теперь весь оскорбленное достоинство. Что понимать под настоящим поэтом? Одного дарования недостаточно, одаренных людей много; быть одаренным — не заслуга, писать о любви — тем более, это чаще всего жалкий лепет, хотя свои стишки эти господа умеют отшлифовывать на славу… Разумеется, я поостерегусь высказывать подобные суждения публично: хороши ли, плохи ли, все мы сочинители, все одна братия; но уж в своем-то узком кругу можем мы называть вещи как они есть?.. Короче говоря, не могу я в блудливом самооголении увидеть ту честность, которая одна и составляет истинное искусство и истинную поэзию…
А вдруг Луций был прав? Да нет, не мог он быть прав: все, что он говорил, было понятно, как любое суждение профессионала, но именно потому все это оставалось в узких рамках профессиональности, невосприимчивой к новым исканиям, целью которых было как раз взорвать эти рамки. Эту цель ставил себе Катулл, он первый указал новый путь, и справедливость требовала это признать.
— Истинное искусство рушит границы, рушит их и вступает в новые, еще не изведанные пределы души, созерцания, выражения — прорывается к исконному, непосредственному, реальному…
— Прекрасно! И ты в самом деле находишь все это в любовной поэзии, о которой мы говорили и которая якобы так честна? Да в одном-единственном стихе «Энеиды» больше истинной реальности! — Луций был неисправим.
— Не буду с тобой пререкаться, Луций. Ведь в известном смысле ты, хваля мою поэзию, защищаешь и свою собственную… Мне-то ничего не стоит признать себя побежденным — и потому ты можешь спокойно отнести это исключительно на мой счет и на счет «Энеиды», если я скажу, что новое искусство уже не может двигаться дальше по наезженной нами колее, что оно вдохновляется заветом искать более непосредственное и исконное, — заветом, указующим путь к праосновам реальности… Воистину так: кто послушен этому завету, тот должен идти к праосновам, к истоку реальности, — и начинать он должен с любви…
Тут, однако, и Плотий переметнулся на сторону Луция.
— Ну уж извини! Я охотно читаю стишки этих юнцов, но что до исконности, о которой ты говоришь, — тут у них кишка тонка! Слабосильны они! Чтобы по-настоящему любить, надо и человеком быть настоящим. А эта вся мелюзга только путается под ногами.
— Слабосильны? Чему нужно больше силы для роста — сочной траве в доброй луговой земле или сиротливой былинке, протискивающейся сквозь камни? Слабосильная на вид, она все-таки тоже плод жизненной силы, тоже трава… Рим — это камень, камни все наши города, и не чудо ли, что в них все-таки пробивается что-то исконное, естественное? Оно, конечно, слабосильно на вид, но все-таки оно исконное, реальное — оно тоже поэзия…
Плотий рассмеялся.
— Насколько мне известно, траве не дано выбирать место своего произрастания, даже если б она вдруг и возмечтала о живописном луге — чтобы какая-нибудь корова ее там и сожрала; она пожизненно приговорена к своим камням — нашим же недорослям ничто не мешает искать естественное и исконное там, где оно произрастает и где человек взращивает его. Право же, никто и ничто не вынуждает их жить среди городских камней ничто, кроме их собственных страстишек и наклонностей; вот потому-то им намного удобнее слоняться по Риму, спать с кем попало и всяк грешок рифмовать в стишок. Не мешало бы им сперва научиться доить корову, чистить лошадь или орудовать серпом.
Горожанин Луций почувствовал себя задетым.
— Кто рожден быть художником — неважно, великим или посредственным, — тот не рожден быть крестьянином; нельзя же всех стричь под одну гребенку, Плотий.
— Просто Вергилий говорил об исконности такой травянистой любви, а я с этим не согласен; уж в этом-то я кое-что понимаю… Слабосильность — она и есть слабосильность.
— А я не согласен с тем, что вы отказываетесь воздать этой молодежи по справедливости.
Луций поддержал рассуждения Плотия энергичным помаванием перста.
— Плотий прав: в них нет силы, и потому дальше обезьянничанья они не пойдут. Какая уж там несправедливость! Тут они подражатели Феокрита, там ученики Катулла, а если удастся кое-чем разжиться еще и у нашего Вергилия, они тоже маху не дадут!
Ах, убедить их было невозможно, на них будто нашла дрема, кои томской плен затверженных мыслен и слов, и они неспособны были прорвать его, отринуть путы привычного языка. Один говорил о травянистой любви и о слабосильности, другой об обезьянничанье, и оба не видели, не хотели видеть, что даже такая худосочная площадная любовь, замурованная в стенах великого города, прозябающая меж его камней, — любовь скудная, чахлая, плотски-земная и часто блудливо-оголенная, — что даже она чудодейственно объемлема великой и благой правотой человеческого бытия и тень божественного крыла осеняет ее, когда ей удается расширить свое Я, продлить его до другого, хотя бы предчувствием коснуться любимой, почувствовать ее в себе, познать бессмертие в соединении с нею. Да, это, именно это можно было ощутить в поэзии молодых, то была новая, человечная, истинная реальность, это она прорывалась подчас в их стихах — и они никогда бы не достигли ее, если б и вправду были его учениками. Ибо именно она, эта реальность любви, она, вбирающая в себя смерть и тем самым ее преодолевающая, преображающая в истинное бессмертие, — именно она была вовек заказана ему, до небес превознесенному поэту Вергилию; пусто и поло было все, что он пел, пустой и полой была «Энеида» — в собственном стылом кругу закляты поэма и поэт; чему, чему он мог научить? Даже Цебета, так трогательно и беззаветно мечтавшего стать его учеником, он одарял благосклонностью лишь потому, что любил в этом юноше свое отражение, что хотел вылепить из него — и, будто по воле демонов, так оно и случилось! — холодного, фанатичного эстета по своему образу и подобию. Катулл, Тибулл, Проперций — все они были способны к любви, и любовь даровала им предчувствие реальности, той, что сильнее всякой спокойной уравновешенности и выводит за пределы земного. Лишь то, что порождается таким предчувствием, способно заставить зазвучать дремлющее человеческое сердце, дабы в звучании этом приуготовилось оно, приуготовил ось к грядущему благовещению гласа — как арфа, запевшая на ветру; и, будто вновь побуждая Плотия распознать наконец истинную реальность, будто в благодарность за его нерушимо-слепую дружбу, затрудненное, утомленное беседой дыхание нашло в себе силы оформиться в речь:
— Чистота сердца… она одна бессмертна…
Хоть и опять ничего не уразумев, Плотий с отрадным добродушием подтвердил: