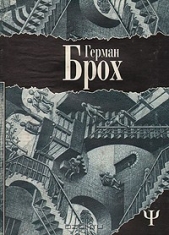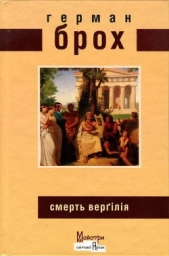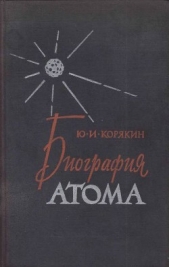Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)
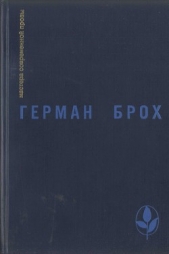
Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия) читать книгу онлайн
Г. Брох — выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входят самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ты провозвестник Рима, и ты пребудешь в реальности Рима; ты пребудешь, пока будет стоять Рим — вечно.
Вечно? Он потрогал перстень на пальце и, ощутив его, ощутил свое тело, ощутил все прожитое.
— Нет, — сказал он. Ничто земное не вечно. Даже Рим.
— Ты сам вознес Рим до божественных высот.
То было и так, и не так. О чем говорил Луций? Не напоминало ли это застольную беседу у Мецената, легко скользящую поверх реальности, почти уже ее не задевающую? Темень сгустилась вкруг него, и он произнес:
— Земное не может стать божественным. Я разукрасил Рим, и эти мои труды не более вечны, чем статуи в садах Мецената… Не по милости художников живет Рим… Статуи будут повержены, «Энеида» сожжена…
Плотий, не прочь продолжить веселье, остановился посреди комнаты.
— Если учесть, сколько произведений искусства насоздавали художники за последнее время, то работой по расчистке ты обеспечен надолго. Чего только не придется повергать и сжигать! Ты обрекаешь себя на пожизненный геркулесов труд!
Представление о грандиозной расчистке неожиданно развеселило и Луция; по его лицу лицу маститого литератора разбежались озорные морщинки, и он даже не сразу собрался с духом, чтобы заговорить, — такой забавной представилась ему картина повального книгосожжения.
— Оба Созия купили у Горация издательские права на «Юбилейный гимн»; здорово они прогорят, если ты и его сожжешь! Не станешь же ты для Горация делать исключение?
— Гораций прислал мне прощальное послание на корабль, когда я отплывал в Афины…
— Вот именно! — Плотий так бодро и радостно поддержал Луция, будто оба наперебой старались заглушить поступь смерти. — Тут он великий грешник, и потому все его ямбы, все оды в общем, все, что он натворил, — в огонь, в огонь…
Почему, собственно, Гораций прислал ему на корабль те прекрасные напутственные стихи? Может быть, он тем самым хотел подавить свою зависть из-за «Энеиды»? Завистливый друг — и все-таки друг…
Но Луций возразил:
— Выбор надо будет предоставить мне. Горация я бы пощадил — у него действительно есть талант… А вот всю эту посредственность я бы вымел начисто — эту посредственность, которая всплыла на поверхность и плодится с каждым часом! Какое падение, боги, какое падение! Нет уж ни риторики, ни театра, ни искусства… Воистину мы последние, и за нами не будет ничего… А потому — все расчистить! Пусть трепещут! — Его снова обуял смех.
— Смех под сводами смерти — она же, скалой обернувшись, тонет в свеченье морском.
Луций остолбенел.
— Какой великолепный стих, Вергилий! Продолжай, продолжай, а лучше — сразу бы записал!
Из глубины какой неисповедимости поднялась эта строка? Откуда пришла? Но она и самому ему понравилась, и приятно было, что ее одобрил Луций, хоть и не красоту стиха надо было хвалить; нет, нет, не в красоте суть, а в чем-то ином, неизмеримо большем, оно-то и заслуживало хвалы, жаждало хвалы. О, теперь он понял, наконец-то понял! Истинного одобрения достойна лишь она, та подлинная и полная реальность, что встает за стихом, но и остается недостижимой, что являет нам всю свою драгоценность лишь тогда, когда слово проникает к ней самой, а не отскакивает от ее каменногладкой поверхности. Кто восхваляет всего лишь стих как таковой, не заботясь о реальности, стихом подразумеваемой, тот путает творящее с сотворенным, тот вольно или невольно — отрицая реальность, уничтожая реальность — совершает клятвопреступление, становится сообщником всех клятвопреступников мира. О неимоверная громада реальности, непокорный утес, пресекающий всякую попытку проникновения, допускающий лишь прикосновение! Эта неприступно гладкая глыба, по чьему неодолимому, неуловимому бездорожью человек продвигается лишь ползком, цепляясь за ускользающую гладкость и срываясь, неминуемо и неумолимо срываясь… Что знал Луций о срывах? Для него поверхность была уже и реальностью. О вековая громада реальности, грозно вздыбленная под облака, но и погруженная во все глубины, непроницаемая в своей гладкости, но и открытая всему бытию, сорвавшийся с тебя низвергается в разверстую бездну…
Плотий встряхнулся и поболтал руками, как гребец на передышке.
— Ну ладно уж, пощадим Горация, пускай творит дальше… Но ты-то ведь делал бы то же самое, даже если б и все сжег: ты ведь, конечно же, продолжал бы писать!
Гораций! Ах, он-то был солдатом и сражался за Рим; он готов был пожертвовать собой ради реальности Рима — отсюда, наверное, и та поразительная неподдельность, что снова и снова прорывается в его стихах. Этого не понимал даже Плотий: даже он не мог понять, что поэту не дано уклоняться от действенного служения.
— О Плотий, служение, деяние, их реальность… Без этого нет поэзии.
— Таков твой Эней, — веско сказал Луций; на что Плотий просто молча кивнул.
Эсхил простым солдатом сражался при Марафоне и Саламине; Публий Вергилий Марон не сражался ни за что.
А Плотий все тем же ободряющим тоном продолжал свои рассуждения:
— Да и никуда не денешься от писания — должен же ты завершить «Энеиду», прежде чем ее сжечь… Неготовое и сырое не сжигают, а тебе и осталось-то работы на каких-нибудь несколько месяцев, даже недель. Так что, друг мой, как тебе ни приспичило со смертью, а уж этот срок протяни.
Завершить? Да что он в своей жизни завершил? Ничего, решительно ничего. Что есть «Энеида» рядом с подлинной историей Рима, написанной Саллюстием, или с тем ее грандиозным зданием, на возведение коего дерзает сейчас Ливий? Что значат «Георгики» рядом с подлинными знаниями, коими снабдил римское земледелие ученейший из ученых, досточтимый Теренций Варрон?! Рядом с такими свершениями о каком завершении может идти речь? Что бы он там ни написал в прошлом, что бы еще ни написал в будущем, все останется неготовым, сырым! Да и то сказать: Теренций Варрон и Гай Саллюстий служили римскому государству, со всей его грубой реальностью, — Публий Вергилий Марон не служил никому.
И, как бы заключая разговор, Плотий добавил:
— О Вергилий, ты сумел написать «Энеиду», на это твоего дара хватило, но не воображай, что ты ее и постиг. Ты ничего еще не знаешь ни о ее реальности, ни о реальности поэта по имени Вергилий: они тебе знакомы только понаслышке.
И, сложив руки на животе, он снова уселся в кресло у окна.
— Поэт по имени Вергилий! Вот он тут лежит, и это его реальность — больше ничего. Еще реальность — то, что Меценат, Азиний Поллион, Август одаряли, кормили, содержали его; они, что сражались за Рим и служили Риму, что самим своим бытием и делом воздвигали реальность Рима, — они оплачивали ему жалкую размалевку возведенного ими храма и не подозревали даже, что оплачивают хлам. Вот как выглядела реальность Публия Вергилия Марона. И он сказал:
— Я не стану завершать «Энеиду».
Луций улыбнулся.
— Ты хочешь, чтобы другой это сделал за тебя?
Нет! — вырвалось у него; он будто испугался, что Луций сейчас предложит свои услуги.
Тут уж Луций заулыбался во все лицо.
— Так я и думал… Стало быть, ты и сам понимаешь, в чем твой еще не оплаченный долг перед нами, перед искусством…
Долг? О да! Он был должником и остался должником; уже там, в квартале трущоб, знали о его долге; он был в долгу перед бытием, он задолжал ему себя самого; но с него теперь нечего взять. Недостижимое взору увидел он перед собой море — до самых небес простиралось оно текучей рудой, чью мерцающую синь увенчивал солнечный диск, и, пронизанное лучами до самых бездн, походило на раскрытый горный собор, чрево мира и чресла мира, великое вместилище, всё впивающее и всё порождающее; день и ночь гулким громом полнились своды, и в гремящем этом гуле распознал он само воплощение гласа, с его наплывами и отливами, воплощение всей реальности, с ее отливами и наплывами.
— Все, что я написал, сгорит в пламенах реальности, — сказал он.
— С каких это пор ты стал разделять реальность и истину? — вскинулся Луций и, как всегда, изготовившись к спору, уселся поудобнее, чтобы начать атаку: Как говорит Эпикур…