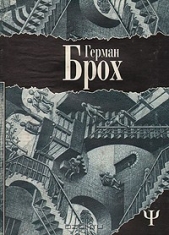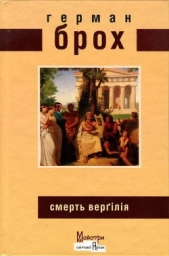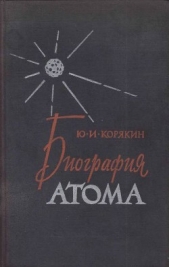Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)
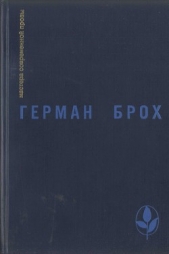
Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия) читать книгу онлайн
Г. Брох — выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входят самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уфф! — продолжал Плотий. — Всю ночь тряслись. И глаз путем не сомкнешь при каждой смене лошадей тебя расталкивают. В одной нашей колонне было под сорок повозок — а сколько еще других! Со вчерашнего дня добавилось, по-моему, не меньше сотни.
Не приехал ли Плотий на телеге? У него добродушное топорное лицо старого крестьянина, и легко представить его себе невозможно не представить! — сидящим в телеге: мерно покачивается, клюет носом и храпит от души.
— Я слышал, как вы подъезжали…
— И вот мы здесь, — заключил Плотий и снова напомнил ему гребца.
— Много народу приехало… очень много…
— Во время приступа не говори, — прервал его Луций, занятый складками тоги, пострадавшими от ночной езды. — Тебе нельзя говорить. Ты же помнишь — врачи всегда тебе это запрещали!
Да помнил он, помнил; и, конечно же, Луций искренне желал ему добра, несмотря на элегантную позу — но она-то и раздражала его, как всегда!
Ничего страшного; не потащи меня Цезарь за собой в Мегару, я бы вообще не заболел… Это все от жары — солнце так нещадно палило во время торжеств… За эту пространную тираду он был вознагражден новым приступом кашля и ощутил вкус крови во рту.
— Помолчи, — сказал и Плотий.
А он не хотел молчать, тем более что Плотий, как он вдруг осознал, сидел в том самом кресле, в котором спал мальчик, и вопрос вырвался сам собой:
— Где Лисаний?
— Греческое имя, — заметил Луций. О ком ты? Вот о нем? — И указал на раба, отступившего к дверям и застывшего в ожидании с прежней миной.
— Да нет… не его… мальчика…
Плотий навострил уши.
— Ах, ты привез с собой мальчика-грека? Ну, тогда и впрямь не так плохи дела! Ишь ты — мальчик-грек!
Мальчик… он исчез… Но кубок все еще стоял на столе — оправленный серебром, резной, из слоновой кости, — и в нем еще были остатки вина.
— Мальчик… он же был тут…
— Ну так пускай он придет… вели позвать его, покажи нам!
Да как же он позовет, когда тот исчез?! И вовсе он не хочет его показывать.
— Мне надо с ним на берег…
«Мы улеглись у воды; сухое песчаное ложе тело покоит, и сон освежает усталые члены», — процитировал Луций, однако тут же прибавил: — Но только не сегодня, мой Вергилий; уж потерпи как-нибудь с этими излишествами до своего выздоровления.
— Что верно, то верно, — подтвердил Плотий из глубины эркера.
О чем это они? Все не то, не то… Он почти уже не слушал их.
— Где Лисаний?
Обернувшись к рабу, Плотий приказал:
— Приведи мальчишку.
— Тут нет никакого мальчишки, господин…
Вот оттуда, от двери, доносился к нему ночью голос мальчика, доносился его шепот, а теперь там стоял раб, и, благодарный ему за поддержку, за сокрытие того и далекого и близкого голоса, он подозвал его к себе:
— Иди сюда… Я встану.
— Нет, ты будешь лежать, — распорядился Плотий. — Врач уже наверняка в пути, и тебя будут лечить в постели. Этими беспутствами ты только вредишь своему здоровью. И не притворяйся, пожалуйста, что у тебя срочные дела; ты просто хочешь скрыть от нас своего мальчишку.
А не пришел ли раб вместо мальчика? Не прислал ли тот к нему своего дюжего приятеля, велев оттащить жертвенный дар на берег? Он услышал собственный голос:
— Возьми сундук, — и сразу испугался услышанного, сразу метнул украдкой взгляд в сторону друзей, чтобы проверить — поняли или не поняли.
И гляди-ка: Плотий, при всей его неуклюжести, прямо-таки взвился в своем кресле, тогда как Луций, стоявший ближе, подошел к постели и наклонился над ней, как врач, собирающийся пощупать пульс у больного:
— Тебя лихорадит, мой Вергилий, лежи спокойно.
А Плотий приказал рабу:
— Позови врача… Скорей!
— Не надо мне врача. — Это вырвалось тоже помимо его воли.
— Не тебе об этом судить!
— Я умираю.
Наступило молчание. Он знал, что сказал правду, но странным образом это его почти не затрагивало. Он знал, что едва ли доживет до вечера, и при этом у него так легко было на душе, будто перед ним простиралась еще целая вечность. Он был доволен, что это сказал.
Наверное, оба посетителя тоже понимали, что дело серьезно; он это чувствовал. Прошло немало времени, прежде чем Плотий нашелся что ответить:
— Не гневи богов, Вергилий. До смерти тебе так же далеко, как и нам… Что же тогда мне говорить — я на десять лет тебя старше, да еще с таким сложением — того и гляди, хватит удар…
Луций не произнес ни слова. Он опустился на стул подле постели и молчал. И трогательнее всего было то, что он, садясь, забыл расправить складки тоги.
— Я умру — может, уже сегодня… Но прежде я сожгу «Энеиду».
— Не кощунствуй! — То был почти вопль, и испустил его Луций.
Снова воцарилось молчание. По-сентябрьски тихо и ясно было в комнате. Снаружи проехал всадник — какой-нибудь из императорских гонцов. Копыта резко простучали по мостовой, потом их мерная четырехтактная дробь потонула в дальних шумах города. Где-то крикнула женщина похоже, позвала ребенка.
Плотий принялся размашисто и грузно шагать по комнате взад и вперед, волоча за собой кромку тоги, и вдруг загремел:
— Коли ты собрался умирать, дело твое, мы тебе мешать не будем. Но «Энеида» уже давно не только твое дело, так что выбей себе это из головы!
И в его заплывших жиром глазках сверкнула яростная молния.
Странно, что именно Плотий так рассвирепел, ведь между ними уже давно — хоть и не целиком они тут друг другу верили — установилось молчаливое согласие насчет того, что их долгие беседы об урожаях и о скоте много важней, чем все диспуты о художественных и научных материях, ведшиеся в присутствии Луция, Мецената и других завсегдатаев кружка. То, что Плотий теперь придавал такое значение бытию или небытию «Энеиды», было посягновением на их согласие, посягновением на чистоту совести, воплощавшуюся для него в душе сельского патриция Плотия Тукки; и тут уж нельзя было смолчать.
— Мир не разбогатеет и не обеднеет от десятка-другого виршей — уж в этом-то мы всегда с тобой сходились, Плотий.
Луций с серьезной миной покачал головой:
— «Энеида» не десяток-другой виршей. Ты не имеешь права так говорить.
— А что же она такое?
Тут Плотий засмеялся; смех был натянутый, но все же смех.
— Напрашиваться скромностью на похвалу — давний грех поэтов, Вергилий, и, пока человек упорствует в своих грехах, ему море по колено.
А Луций добавил:
— Неужели тебе надо это повторять? Не тебе ли известно лучше, чем кому-либо из нас, что величие Рима и величие твоей поэзии уже нераздельны?
Смутное раздражение поднялось и сгустилось в груди, в комнате; эти двое не хотели понять того, что сумел понять ребенок; но, поскольку решение его было окончательно и неколебимо, надо было их вразумить.
— Ничто нереальное не имеет права на жизнь.
Он сказал это твердым, взвешенным и наставительным тоном, и Луций, похоже, понял, о чем идет речь.
— Значит, по-твоему, «Илиада» и «Одиссея» тоже нереальны? О божественный Гомер! А как быть с Эсхилом, с Еврипидом? Это все не реальность? Сколько еще я должен назвать тебе имен и творений, исполненных вечной реальности?
— К примеру, трагедию «Фиест» или поэму об Августе некоего Луция Вария, — не удержался, чтобы не добавить, Плотий, и его смех снова стал смехом добродушного увальня.
Луций, задетый за живое, кисло улыбнулся.
— Семнадцать представлений «Фиеста», конечно, еще не доказательство его вечности…
— Но уж «Троянок»-то он переживет — верно, Вергилий?.. Ага, ты смеешься! Я рад, что ты снова можешь смеяться.
Да, он смеялся; правда, с натугой, через силу, потому что смеяться ему было больно, и еще он стыдился этого смеха: вот он от души потешается над смущением Луция, а тот ведь всего лишь хотел защитить «Энеиду», утвердить ее право на бессмертие; и именно поэтому надо было вернуться к серьезному тону.
— Гомер был провозвестником богов; он пребудет в их реальности.
Не обижаясь на то, что его подняли на смех, Луций возразил: