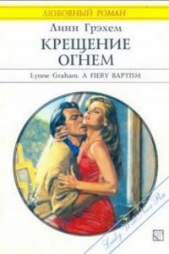Крещение (др. изд.)

Крещение (др. изд.) читать книгу онлайн
Роман известного советского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ивана Ивановича Акулова (1922—1988) посвящен трагическим событиям
первого года Великой Отечественной войны. Два юных деревенских парня застигнуты врасплох начавшейся войной. Один из них, уже достигший призывного возраста, получает повестку в военкомат, хотя совсем не пылает желанием идти на фронт. Другой — активный комсомолец, невзирая на свои семнадцать лет, идет в ополчение добровольно.
Ускоренные военные курсы, оборвавшаяся первая любовь — и взвод ополченцев с нашими героями оказывается на переднем краю надвигающейся германской армады. Испытание огнем покажет, кто есть кто…
По роману в 2009 году был снят фильм «И была война», режиссер Алексей Феоктистов, в главных ролях: Анатолий Котенёв, Алексей Булдаков, Алексей Панин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Баню делаем, а железа на трубы нету. Ты разреши, пока нет полковника, спять с крыши листика два — три. Сдохнем без бани.
— Сдохнем вчистую, — согласился Минаков.
— А дом, он что? Он ничего. Он и без трех листиков не рухнет.
— Да что мне, Охватов. По мне, хоть весь его раздень. А что полковник скажет? Не поглянется ведь ему, уж это–то я знаю. Закатает он тебя под арест.
— Закатает — туда и дорога.
— Ой ты?
— Чего уж там, Минаков, все едино. Весной вот напахнуло. Дома, бывало, как появятся первые проталины, ботинки достанешь, чистить их начнешь, будто в гости позвали. Душа поет. Ребятишки на свежей земельке, у заборов, в чику жарят. Свяжешься с ними — всю мелочь выгребут, подлецы. Бери, пацанва, весна скоро!.. Так я возьму пару листиков. Пополнение вот получим и — снова и бой. Уж до чего хочется в баньке побывать! Спасибо тебе, Минаков, за угощение. Я тебя, Минаков, за эту доброту с веником попарю. Ты, если боишься полковника, возьми да уйди куда–нибудь на полчасика. Ничего он не узнает — я со стороны сада сниму.
Минаков согласился и даже встал на караул.
Охватов был немножко знаком с кровельным делом, потому быстро перещелкал ножницами жестяные клямары, которые держали железо на обрешетке, и в четверть часа спустил на землю косяк кровли. Дальше все пошло как по маслу.
К глухой стене своей хаты, под вишневыми деревьями, приткнул верстак, и весело загремела жесть, зазвенела старая, проржавевшая ось, на которой Охватов гнул и сводил швы.
С первыми ударами всполошилась вся деревня: не то набат, не то тревога, не то сбор играют. Прибежал посыльный из штаба полка — глаза навыпучку:
— Кто приказал шум производить?
Но Охватов даже ухом не повел. Ходил и ходил молотком по жести, и послушно гнулась она, свертывалась в трубу. Обитое от грязи железо новело, шов выходил ровный с заплечиком, а Охватов оглядывал трубу, как и положено мастеру, неторопливо, степенно, целился через нее в небо и ставил наконец к стене одну возле другой, как крупнокалиберные артиллерийские стаканы.
В деревне среди бойцов только и разговоров было о бане. Возле дома, где работал Охватов, перебывал едва ли не весь полк, а какой–то маленький боец, черный и с подвижными плечами, все притирался к Охватову, угощал табаком и хвалил.
— Мастак ты, парень. Где–то ты вот научился же? И ловко–то как. Ловко. Перекури это дело.
У Охватова рукава шинели подвернуты, полы заправлены под ремень; сам он весь отдан делу, но похвалу слышит. А чернявый, цыганского обличья, льнет:
— Перекури, парень, а то запалишь печенку.
Охватов перебросил с руки на руку очередную трубу,
подмигнул чернявому:
— Вот так, смолю и к стенке ставлю. А я ведь знаю, что тебе надо. Котелок сделать.
— Ей–богу! Ой какой ты славный. Ты редкозубый. Видишь, зубы редкие у тебя — значит, характером добрый ты. А котелочек сделай мне. На двоих у нас котелок, а меня с души воротит кушать с ним: рот мокрый, зубы гнилые… Я тебе сахару дам порций десяток — это же не баран начихал. Кури мой табак на здоровье.
После труб Охватов из куска покрепче свернул котелок с проволочной окантовкой и дужкой. Чернявый бил смуглыми пружинистыми пальцами по дну своего нового котелка, приплясывал на радостях:
— Ой, парень, по тебе невесту можно найти только у нас в Молдавии. Поедем к нам в Молдавию. Мишку Байцана вся Молдавия знает. Вот гляди… — Мишка положил на ладонь коробок спичек, повернул ладонь книзу — коробок исчез. — Нет, ты скажи, редкозубый, поедешь или не поедешь?
— Да ведь Молдавия твоя под немцем еще…
— К лету освободим. У меня там мать, отец, дочка…
— К лету, Миша, Молдавии нам не освободить.
— Я знаю, — покорно согласился Байцан и померк.
Только теперь Охватов заметил, что у Байцана много
морщин под глазами и со старческой скорбью западают углы рта.
— Ну ладно, Миша. Все равно наше дело правое.
— И победа будет за нами, — повеселел Байцан и, белозубо улыбаясь, сказал: — Хороший ты парень. Я еще приду к тебе и научу делать фокусы, Ловкость рук — и никакого мошенства.
XXV
Вечером, стыкая трубы в дезкамере, Охватов увидел на ремне напарника, немолодого бойца, свой недавно сделанный котелок.
— Откуда он у тебя?
— Котелок–то?
— Котелок–то.
— Немцы из дальнобойной три снаряда бросили — пристрелку, очевидно, провели, — а по дороге с котелком в руках шел цыганок из нашей роты… Котелочек–то уж больно хороший — не пропадать же добру.
— Да ведь я только что с ним разговаривал. После обеда уже.
— От смерти не посторонишься, — вздохнул боец. — А цыганок этот ох и дошлый был: как начнет выкидывать фокусы — спасу нет. И фронта боялся. Ой как боялся! Все крутился возле комиссаров, нельзя ли куда в клуб приткнуться. Уйдет, бывало, выхлопатывать себе местечко, а мы катим его почем зря за трусость и малодушие. Да и что, в самом деле, один — на склад, другой — в клуб, а воевать? Словом, несем Мишку Байцана — пыль столбом. Кажется, подвернись он под горячую руку — морду набьют. Но вот придет Мишка, выкинет фокус — и все забывается, нету на него злости. Думаешь, черт возьми, да охота человеку жить. Охота. Но…
— А вы знаете, что у Мишки вся семья в оккупации? — с вызовом спросил Охватов. — Может, он потому и жить рвался, что хотел семью на свободе увидеть.
— В бой бы надо рваться за семью–то, я так полагаю.
— Мало ли полагаешь. Человеку обстреляться надо, попривыкнуть. Может, тот же Мишка храбрей бы храброго сделался. На фронте поменьше о себе думать надо, Это не сразу приходит.
— А может, и в самом деле, жить теперь надо по пословице — надвое: и довеку и до вечера. Мишка вот хотел жить довеку…
Боец кончает обкладывать железную бочку кирпичом и, сознавая, что управится скорее Охватова, не торопится: кирпичи хорошо подгоняет, швы выравнивает, а сверху несильно, но настойчиво поколачивает деревянной ручкой молотка. У него широкий угластый лоб, широкий подбородок и крупные некрасивые губы. Кожа на лице гладкая, по–ребячьи нежная. Охватов не любит его за эту кожу и почему–то не верит ему, а свою жестяную работу ставит несравненно выше печного дела и оттого смотрит на бойца с явным превосходством. Но когда тот сказал, что жить надо надвое, Охватов приятно поразился мудростью его слов. Подвесив к потолку очередное колено трубы, он изумленно смотрел на бойца, сгибом руки заламывая шапку и вытирая вспотевший лоб.
— Ты это мудро сказал, о жизни–то.
— Не я сказал — народ. А народ всегда мудро говорит. И знаешь, что интересного во всем этом деле? Кстати, тебя как зовут? А меня Козырев. Ты «Угрюм–реку» не читал? Не читал. Ну бог с ней. Так вот, дорогой Коля, во всей этой петрушке меня больше всего удивляет одно обстоятельство: тот, кто живет довеку, не дотягивает и до вечера. — Козырев ополоснул руки в ведре, в которое макал кирпичи, вытер их о свои обмотки, подошел к Охватову — Ты, Коля, отдохни немного, а я расскажу тебе.
— Вот и будем точить лясы. Так, что ли? — хмуро и недружелюбно прервал Охватов Козырева и опять невзлюбил его.
— Ну ладно, ты работай, а я буду рассказывать. Я в запасном полку был писарем строевого отдела. И мы с капитаном отправили маршевую роту не в ту дивизию. Нас обоих по шапке. Я рядовой, со мной проще: в маршевую и — на передовую. А капитана крутили, вертели — Да с нами же, во главе маршевой. Пока шли до передовой, у капитана штаны не стали держаться: боялся смерти. В полк прибыли — его вместе с нами в окопы, ротным. Приполз он к нам — краше в гроб кладут. А на передовой тишина. Покой. За день выстрела три услышишь, и то много. Наша солдатня совсем распоясалась: суп на бруствере стали варить. Оправляться — опять наверх, белым местом к немцу. Мы капитана начали вводить в обстановку, рассказывать, где, что, как. Капитан только через неделю решился выглянуть из–за бруствера, вот так. — Козырев прикрылся ладошкой до самых ресниц. — Выглянул, а пуля тут как тут. По височку чирк его. Только и успел наш капитан сказать: «Напиши, Козырев, жене, сберегательная книжка в обложке двадцать третьего тома…» А чьего тома, не сказал. Не успел. Тоже человек рассчитывал жить довеку. Верно?