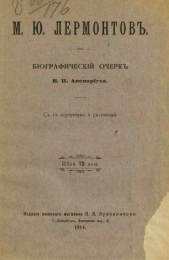Если б мы не любили так нежно

Если б мы не любили так нежно читать книгу онлайн
О шотландце Джордже Лермонте (George Leirmont), ставшем родоначальником русских Лермонтовых, Михаил Юрьевич написал вчерне исторический роман, который он отдал мне на прочтение перед своей гибелью…
У М. Ю. Лермонтова было тогда, еще в Петербурге, предчувствие близкой смерти. В Ставрополе он сказал мне, что ему вовсе не чужд дар его древнего предка Томаса Лермонта, барда и вещуна, родственника шотландских королей уже в XIII веке…
На этом предисловие, написанное рукой Монго, Столыпина, друга и секунданта М. Ю. Лермонтова, обрывается. Далее следует рукопись того же Столыпина, написанная, судя по всему, на основании записок самого М. Ю. Лермонтова. Рукопись эта была обнаружена мной в июне 1981 года в Ватиканской библиотеке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот и рвется в бой рейтар, или копейщик, выбирает себе в бою побогаче противника, чтобы убить его, завладеть его имуществом, животом и статками, ободрать его как липку, а трофеи — продать, чтобы отложить золотишко на законный отъезд. Это и будит в рейтарах зверя. И какого зверя. Правда, потом многие спускают все это кровное золотишко в зернь [95] и карты, а два чудака из 2-го шквадрона даже режутся на золото в шахматы. Дальше — больше. Грабеж, мародерство, смертный убой. Лезут в карманы еще теплого трупа. И карманы еще теплые. Шарят за пазухой. Срывают золотые и серебряные наперсные кресты джентльмены. Джентльмены удачи.
А потом они видят, эти рейтары, видят с годами, что золото уплывает песком между пальцами. Тогда приходит отчаяние. Наемник становится игроком. На кон ставит свою жизнь. И ничто уже не смущает его. Совесть заглушил он вином и кровью. Совесть его черна и бездонна, как ад. И меркнет юношеская мечта, заслоняет ее мираж, фата-моргана. И человек превращается в зверя. И мстит всему свету за то, что зверем сделал его этот свет.
Брак, заключенный без венчания в храме Божием, но с ведома и согласия церкви, назывался тогда в Европе и у московских рейтаров браком чести и был, по сути, полузаконным. С каждым годом Наташа все больше страшилась навлечь на себя гнев Господень и приходила в ужас, когда Лермонт пытался мягко высмеять ее страхи. Ему было бесконечно жаль свою праведную, богобоязненную и все-таки мужественную жену, но он не мог пойти на сделку со своей совестью, стыдясь людей, и прежде всего Криса Галловея, что Наташа, потому тайно невзлюбившая долговязого шкота, тонко чувствовала. Лермонт не цеплялся за религию родителей, не считал ее единственной, истинной, но не хотел никого обманывать — ни Бога, коли он есть, в чем не был уверен, ни людей, не уверовав по-настоящему в православие. Но с годами его все более беспокоило будущее своих детей — а вдруг церковь признает Вильку, Петьку и Андрея полузаконными и незаконными!
Но что мог он поделать, если все еще не знал, останется ли он в Московии или вернется с семьей на родину!
Старина Дуглас, и тот, пойдя против всех своих правил, крестился православным, чем весьма потрафил фон дер Роппу и полковому батюшке. Бог ему судья! Лермонт же считал такой шаг несовместимым со своей дворянской честью.
— А твой сэр Дуглас, — с усмешечкой заявил Крис Лермонту, — завзятый никодемист.
— Никодемист? — не понял рейтар. — Это что такое?
— Был такой памфлет знаменитый у нашего Кальвина: «Excuse a Messieurs les Nicodemites» — «Апология господ никодимистов». Кальвин вспомнил фарисея Никодима, упомянутого в Евангелии от Иоанна. Этот Никодим признал Христа сыном Божиим, но приходил к нему только тайно, под покровом ночи, чтобы не испортить отношений с властями предержащими. Его именем Кальвин заклеймил тех протестантов, что, живя с католиками, ходят в их храмы слушать мессу. Кальвин считал их малодушными лицемерами, а я припомнил бы ему старинную поговорку: в Риме делай, как делают римляне. Король Франции Генрих Четвертый тоже был явным никодимистом, вероисповедания менял, как перчатки, а какой это был король! Дуглас ведь служил ему — вот и следует примеру этого славного короля. Ты мне сам говорил, что в крепости Белой, принимая решение о капитуляции на государево имя, он вспомнил короля Генриха, сказавшего: «Paris vaut bien une messe», и, переиначивая его, изрек «Москва стоит обедни». Ведь эти слова решили и твою судьбу. Нет, я не осуждаю ни уважаемого короля Генриха IV, ни Дугласа. Исповедовать две веры — значит не исповедовать ни одной.
Еще до того, как ротмистру Лермонту исполнилось тридцать пять лет, выехал он со своим эскадроном снова под Трубчевск. Он решил тогда, что прослужит этак до 38-го года, отбоярит четверть века в «несносно тягостных» походах на службе русскому оружию — и уйдет в отставку, поедет в пожалованное ему поместье близ Симбирской линии под Саранском, станет заниматься соколиной охотой, коей учил его еще отец в Грампиенских горах, гонять бобров, ходить на медведей и невиданных в Шкотии росомах. И писать. Писать историю всех своих приключений. На чуть подгорелом масле усталой, выстраданной иронии. Как у Сервантеса.
Он плыл через быструю, темную, омутистую Десну под пушечным огнем, а все-таки взобрался на правый высокий берег и взял у ляхов Трубчевск. И снова пролил кровь за Русь — мушкетный рикошет пробил мякоть правого бедра. Это обещало ему отдых в Москве, с Наташей, с сыновьями — с Вильямом, Петром, коего он звал в честь деда Питером, отчего сердилась мать младенца, получившая на семейном совете право назвать второго ребенка и желавшая дать второму мальчику имя своего отца Ивана, и только что народившимся Андреем.
— Третьего, Юрий Андреевич, свет ясный, — сказала Наташа, — назовем вместе. Может, Бог даст девочку.
— Нет, мальчика, только мальчика хочу! — возразил счастливый отец, страстно желая во чтобы то ни стало стать родоначальником русского рода Лермонтовых вдобавок Лермонтам норманнским и шотландским.
Удивительно расположила судьба его на хладном камне полуторастолетней гробницы кого-то из князей Трубецких, скончавшегося, судя по полустертой эпитафии, в семидесятых годах XI века. Тихо падали на него капли осеннего дождика, кленовый лист прилепился ко лбу, а лекарь где-то бегал среди раненых и умиравших под желтыми, еще не облетевшими деревьями старого собора.
Потом везли шквадронного раненого по немыслимым в Европе дорогам на невозможно тряской телеге по дубовым дремам вдоль Десны к Дебрянску, по сыпучим пескам и грязи неимоверной, по сквозным уже рощам и глухим борам, помнившим Соловья-разбойника. А в Дебрянске, или в Брянске, достал он чем писать и писал, что слышал и узнавал по дороге: как князь Василий Смоленский прибыл из Золотой Орды с ярлыком на Брянское княжество, как овладел городом промеж непролазных дубрав Ольгерд Литовский, отец Ольгердовичей, предков князей Трубецких. Только через полтора века занял Брянск Яков Захарьевич Кошкин из рода Романовых. Все это писал он, вылеживаясь в старом Поликарповом монастыре, в лесной крепости Дебрянской.
В Москву его привезли уже на розвальнях по накатанному санному пути. К тому времени Лермонты перебрались из деревни на Арбат, и Наташа с плачем, простоволосая, выбежала из их домика, кинулась к нему на грудь. Милая Наташа, набожная, кроткая, чистая. Может, слишком набожная, кроткая, чистая…
В последние годы они все реже виделись. Все чаще звала его труба в боевой поход, все больше времени приходилось проводить в экспедициях. Почувствовал он, что между ними появляется какая-то холодная отчужденность, и испугался. Как годы летят, как быстро жизнь проходит. У них уже было трое сыновей. Со старшим он говорил только по-аглицки и по-шкотски, хотел, чтобы сын и наследник знал оба языка его родины. На второго сына его уже не хватило — Петька слабо усвоил заморские языки, потому что редко видел отца и говорил с ним. А Наташа, или Натти, как он ее часто называл, так и не научилась иноземным языкам, знала только от мужа слова любви. Он не раз пытался пробудить в ней интерес к Шкотии, но Шкотия эта оставалась для нее Неметчиной, нежеланной и не зовущей.
— Что это у тебя, ладо мое? — спросила она его как-то в постели, трогая гайтан с ладанкой, висевшей с наперсным крестом матери у него на шее.
— Это талисман, — ответил он. — Талисман таинственный и чудный. — И стал рассказывать о том, как однажды ночью Мария Шкотская, опасаясь, что Елизавета Английская умертвит ее сына и наследника, спустила младенца в корзинке на длинной веревке из башни Эдинбургского замка, в коем была заточена. Заговор удался, ликовала вся Шкотия. В заговоре по спасению цесаревича были замешаны и Лермонты, и один из них сохранил веревку, ставшую шкотской святыней.
Обрезок ее всего в дюйм длиной попал к отцу Джорджа Лермонта, и он обшил его бархатом и вставил в ладанку. Долго хранил его от бурь и пиратов этот талисман, но когда цесаревич сделался королем Шкотии Иаковом VI и королем Англии Иаковом I и изменил своему народу, в последнюю свою побывку дома капитан Лермонт сорвал с шеи и кинул в очаг свой верный талисман. Мать незаметно спасла его от огня, а отец ушел в плавание и был изрублен испанскими пиратами. И тогда мать собственноручно надела талисман юному Джорджу на шею, говоря, что веревка эта заговоренная и дело свое сделала, а в том, что получилось из сына Марии Шкотской, она вовсе не виновата.