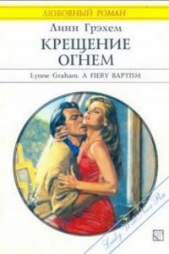Крещение (др. изд.)

Крещение (др. изд.) читать книгу онлайн
Роман известного советского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ивана Ивановича Акулова (1922—1988) посвящен трагическим событиям
первого года Великой Отечественной войны. Два юных деревенских парня застигнуты врасплох начавшейся войной. Один из них, уже достигший призывного возраста, получает повестку в военкомат, хотя совсем не пылает желанием идти на фронт. Другой — активный комсомолец, невзирая на свои семнадцать лет, идет в ополчение добровольно.
Ускоренные военные курсы, оборвавшаяся первая любовь — и взвод ополченцев с нашими героями оказывается на переднем краю надвигающейся германской армады. Испытание огнем покажет, кто есть кто…
По роману в 2009 году был снят фильм «И была война», режиссер Алексей Феоктистов, в главных ролях: Анатолий Котенёв, Алексей Булдаков, Алексей Панин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Майор Афанасьев, маленький, с впалой грудью и острыми ключицами, разомлел в тепле и походил на мужичишку–лежебоку, которому не только с печи слезть лень, но и говорить–то неохота. Он умолк и озабоченно утянул ноги на печь, поставил их подошвами на теплые кирпичи, руки собрал на высоких коленях.
— Если обнаружат — погибнем. Документы лучше не брать, — не то спросил, не то просто высказал свою мысль Филипенко.
— Гляди сам. Но я бы не стал собирать. Народ все новый, сразу подумают: на смерть повели. Затрусятся — и провалите дело. Иди как есть.
Когда Филипенко ушел, майор Афанасьев растянулся на печи и собирался уснуть хоть на часок, но вдруг слез на пол и стал одеваться: «Пойду провожу сам — все равно не уснешь». Засобирались и связные. Хозяйка–старуха, жавшаяся в углу на кровати, прокашлялась, сказала, имея в виду самого старшего, майора:
— Только–то и поспал, сердешный? Господи, царица небесная, яко глядиши, яко терпишь… — Потом, когда все связные вышли на улицу и к двери направился сам майор, она остановила его: — Погоди–ка, касатик, я вот словечко скажу. Все гляжу, идут к тебе да к тебе, а самому тебе и подумать некогда о своей головушке… На–ко, дам, спрячь, и оборонит тебя царица небесная…
— Что суешь мне, убогая?
— Не спрашивай, касатик. Бори и схорони, где душа.
Афанасьев взял теплую ладанку с латунной цепочкой
из мелких текучих колец и, давясь смехом, спросил:
— А душа–то где? Из меня уж ее, по–моему, выбили.
— Она, касатик, душа–то, как то слово: сказал — оно есть, и не сказал — есть. Слову своему веришь, и душе спасенной верь так же. Ты большак, потому и не чуешь души своей, а вот поговори хоть единый разок с богородицей и душу обретешь. Ты только о ней, о богородице, подумай, и разговор уж весь тут. Как тебе силь — но–то тяжело исделается, ты о ней сразу и вспомнишь — в этом и будет твоя спасенная душа. Я, касатик, при Троице—Сергии много зим жила, а разно было: при добром здоровье да тихой жизни меньше думаем о боге, все потяжелей уж когда. Заступница богородица добрая, она скорбящую душу больше видит.
— Говоришь долго, а где душа, так и не сказала, — прервал Афанасьев бабку и хотел уж вернуть ей ладанку, да почему–то раздумал, положил в карман шинели.
— Долгий разговор, касатик, без дела. А я говорю все к месту: твоя жизнь вся чижолая, и теперь, как я сказываю, ты не единожды богородице помолишься.
— Что–то быстренько ты меня в свою веру обратила, — майор усмехнулся. — Немцев бы так–то, всех до единого.
— И будет, касатик. Все станут русскому богу молиться.
— Это почему?
— Ты ведь, касатик, собрался идти…
— Собрался, да старуха ты очень занятная. Говоришь складно.
Афанасьев все ухмылялся, вроде забавляли его бабкины слова, но в сторожких афанасьевских глазках загорелось и откровенное любопытство, которое как елеем умасливало душу бабки.
— Станут молиться. Христу молятся. А почто молятся, думал? Все недосуг, касатик. Русский человек, как и Христос, за других страдает. Его вины перед другими нету, касатик. От сотворения мира…
Связные, вышедшие до Афанасьева и не дождавшиеся его на улице, решили, что он передумал идти, и стали заглядывать в дверь, а потом полезли в хату.
— А ну пошли, пошли! — Афанасьев выдворил связных обратно и, уходя сам из хаты, сказал: — Путано говоришь, бабка, но на добром слове спасибо. Будет время — еще зайду.
Бабка сидела все время на своей постели с ногами под синим рядном, заменявшим ей одеяло, нечесаная, неприбранная, совсем ненужная этим молодым, полным жизни людям, которых она наверняка переживет. Может, поэтому она и думала о них как о страдальцах, может, поэтому, когда она подняла на уходящего майора глаза, в них томилась великая человеческая тоска.
Афанасьев, выйдя на улицу и опять руководствуясь чем–то неосознанным, переложил ладанку из бокового кармана шинели во внутренний, а шагая по сугробам в роту Филипенко, радовался тем мыслям, которые неожиданно нахлынули на него: «А разве не так все, как говорит она, старая? От века же, черт возьми, или, как она выразилась, от сотворения мира, русский человек страдает. И обживать ему довелось самые невезучие земли, холодные, лесные… Боже мой, одна зима восемь месяцев, а тепло придет — пожить бы да понежиться, не тут–то было — страда. И опять страдает крестьянин. А чуть обжился, обзавелся справой, скотом, постройкой — на тебе, иноземец: не половец, так поляк, не поляк, так татарин, не татарин, так швед, или турок, или японец, или француз. А немец–то ну–ко навадился!.. Так и в самом деле, за какие же грехи страдает русский человек? Ведь и слово–то «крестьянин» происходит от креста, на котором был распят Христос. Вот они, бабкины–то слова…»
Перед конюшней, у плетня, их неожиданно окликнули, а потом к ним подошел боец и прерывающимся от волнения голосом сообщил, указывая влево, на темную полоску:
— Оружие приготовьте, а то в кустах что–то подозрительное.
— Почему не проверите? — спросил майор.
— Доложили ротному.
В темной конюшне в чадном дыму кашляли, храпели, ходили и переговаривались люди.
— Отобранные, выходи на улицу! — командовал Филипенко.
Афанасьев пошел на его голос, но комбата ткнул кто–то в шею: не крутись под ногами. «Это хорошо, — подумал Афанасьев, — ребят, должно, добрых подобрал». И услышал за спиной шепот своего связного:
— Ты же майору засветил, кикимора.
— Я сам вчера был майором.
— Там, в кустах, говорят, что–то неспокойно, — сказал Афанасьев Филипенко. — На полпути обнаружат — гроб с крышкой.
— Как ни поверни — все крышка.
— Что уж так?
— Будто не знаешь.
Майор молчал, покусывая и потягивая пустой прокуренный мундштук: уж он–то, комбат, знал, с каким риском связана неподготовленная вылазка в тыл противника. Жалея Филипенко и сознавая, что надо сказать подчиненному что–то ободряющее, посоветовал:
— Ты хоть держи возле себя два–три человека понадежней.
— Охватов, построй людей, пересчитай! — распорядился Филипенко, а комбату сказал: — Охватова помощником взял. Урусов, Кашин, Брянцев, мои старички, под рукой будут. Как же без этого. Большинство — ребята — комсомольцы. Это надежно.
Филипенко говорил и все ощупывал ремень с пистолетом, лямки вещевого мешка, куда набил больше десятка гранат, похлопывал себя по карманам брюк и шинели: или еще проверял что–то, или уж от волнения руки сами искали дела.
— Ну ты не трясись, все равно ради дела идете, — строго и деланно недовольным голосом сказал Афанасьев.
— А кто что говорит. Пойдем… Не доберемся до станции, — после паузы прибавил Филипенко, — не доберемся если, людей не поднимайте.
— Ну это не твоя печаль, без тебя решим.
Филипенко был мрачно настроен, а кроме того, знал,
что перед выходом на рискованное дело ему многое прощается, отрубил:
— Много потеряли в утренней атаке и — зря.
— Не к месту разговор этот, Филипенко. И вообще ненужный разговор. Полмира в крови захлебнулось — что там твоя дивизия. Да и кто мог подумать, что он силы подтянет. Мало же его было.
— Думать надо.
— Ух какие вредные мысли! — вполголоса проговорил Афанасьев и, повернувшись к выстроенным взводам, повысил голос: — Вы, ребята, должны сделать то, что не могла сделать вчера вся наша дивизия. Кому боязно — останься. Нету таких? Нету. Я всегда знал, что старший лейтенант Филипенко в людях не ошибается. Ходу теперь.
XII
Полсотни человек, обмотавшись для маскировки — у кого что было — белыми тряпками, цепочкой пошли в мутную морозную ночь. К железнодорожной насыпи, правее станции километра на три–четыре, вышли тихо и без помех. Переползли дорогу, залегли в канаву. Здесь Охватов, шедший с Урусовым замыкающим, доложил Филипенко, что он побил бойца Соркина, который отставал всю дорогу, а потом вообще отказался переползать насыпь.
— Молодой, бровастый?
— Ну.
— Всыпал, и ладно. Потом разберемся.
Дальше Охватов с тремя бойцами ушел вперед. Примерно в километре от залегших взводов, при спуске в низину, их обстреляли из пулемета. Стреляли немцы вяло, бесприцельпо — видимо, русских на скате не обнаружили. И те успешно спустились в низину, притаились в кустах. Осмотрелись. По тихому следу Филипенко привел в кусты всех бойцов.