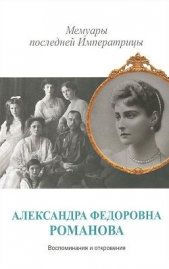Царский угодник. Распутин

Царский угодник. Распутин читать книгу онлайн
Известный писатель-историк Валерий Поволяев в своём романе «Царский угодник» обращается к феномену Распутина, человека, сыгравшего роковую роль в падении царского трона.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Очень, — живо воскликнула Ольга Николаевна. — А о чём вы говорили?
— О разном.
— Извините, Григорий Ефимович, но очень любопытно...
— Я им о Иерусалиме, о Назарете рассказывал, о травах, которыми лечат всякие болезни, о землях разных, о Сибири, о своём Покровском. Путь-то от Покровского до Иерусалима я пешком проделал дважды.
— По морю — тоже пешком? — В голосе Ольги Николаевны не было ни сомнений, ни ехидства — только любопытство.
И тем не менее Распутин немного смутился.
— Нет, как же по морю пешком? По морю — на пароходе.
— Извините.
— Ничего, ничего. — От Распутина перестали исходить некие волнующие токи, что-то угасло, и сам он угас, у него сделалось усталым, очень далёким лицо, словно бы Распутин присутствовал сейчас в краях, где ему когда-то удалось побывать, он сгорбился. — В Иерусалиме я встречался со святыми людьми, с врачевателями, они дали мне много толковых советов, вообще глаза на мир открыли. Об этом расскажу как-нибудь позже, — Распутин расслабленно махнул рукой, — позже...
Возникла пауза. Ольга Николаевна подумала, что Распутин жалеет о том, что разоткровенничался, доверил некие свои тайны незнакомым людям, тронула Распутина пальцами за рукав:
— Спасибо, отец Григорий. — Она назвала его так же, как называла и царица.
— За что? — Распутин невольно усмехнулся.
— За искренность. Это качество стало очень редким в наше время.
— Да, редкое, народ изоврался, — согласился с ней Распутин. — Изоврался, изворовался, изуверился. Революционеры какие-то появились, бомбисты. Дворяне стали хуже крестьян. Всё в мире перевернулось, все мы летим куда-то... В преисподнюю летим. — Распутин вздохнул, бледность, наползшая на его лицо, уступила место живым краскам, на скулах появился румянец, он снова взял из тарелки хлеб, опустил его в уху, окунув в неё пальцы чуть ли не по сгибы. Подтвердил: — Да, в преисподнюю!
— Это страшно. — Ольга Николаевна вздохнула.
— А мужу твоему я помогу. Обязательно. Я помолюсь за него, — пообещал Распутин. — Он жив будет. Останется живой в страшной мясорубке, и это главное. Хотя... — Лицо Распутина дрогнуло, глаза сделались маленькими, жёсткими, щёки стали морщинистыми, будто у древнего старика. — То, что случится с Россией дальше, будет ещё хуже...
— Хуже? — не выдержав, спросила осёкшимся голосом Ольга Николаевна. — Куда хуже-то? Ничего хуже войны не бывает и быть не может.
— Может, милая, может. И это ждёт Россию.
Распутин вновь умолк. О чём он думал сейчас, что вспоминал — ни Ольге Николаевне, ни поручику Батищеву не дано было угадать. Может, он действительно мыслями перенёсся в далёкий 1910 год, когда по шпалам босиком, жалея сапоги, пришёл пешком в Петроград — извините, Санкт-Петербург — и остановился на несколько дней в монастырской гостинице архимандрита Феофана, а может, более позднюю пору, когда генеральша Лохтина, миловидная женщина со сдвинутыми мозгами, любившая появляться в обществе в белом шёлковом цилиндре, учила его грамоте, до Лохтиной Распутин даже не умел расписываться, вместо подписи ставил крест, или же в те дни, когда он в первый раз увидел наследника российского престола царевича Алексея — тихого, мягкого по характеру мальчика, страдающего редкой болезнью... Нет, не дано было ни Ольге Николаевне Батищевой, ни её щеголеватому мужу узнать, о чём сейчас думает Распутин.
А сам Распутин им ничего не рассказал.
Обед продолжался. Распуган был скучен, вял, много пил и подчёркнуто демонстративно ухаживал за Ольгой Николаевной. На поручика же он вообще перестал обращать внимание.
Ольга Николаевна почувствовала, что ухаживания Распутина ей противны. Но их надо было терпеть — она беспокоилась за судьбу мужа.
Очень часто в ту зиму Распутин бывал мрачен: «старцу» казалось, что его непременно убьют, слишком многим он сделался неугоден — встал, как сухой кусок, поперёк горла. Одни хотели с его помощью получить повышение по службе, но не всем Распутин помог, часто просто не хотел это сделать, и недовольные жаждали расквитаться с ним, другие были в претензии за то, что «старец» самым бесстыдным образом «изгоняет бесов» из их жён и дочерей, и наливались мстительной кровью, желая расправиться с блудливым Гришкой, у третьих были свои причины.
Распутин, обладая очень чувствительной душой, улавливал эти токи опасности, наливался бледностью, часами сидел у себя в квартире, боясь выйти на улицу, ко всему прислушивался с напряжённым лицом, ловил всякий звук — и те звуки, что доносились снаружи: гиканье лихачей, скрипучее карканье ворон, резкие всхлипы-сигналы автомобильных клаксонов, перебранку городового с агентами «старца», и те, что рождались внутри, в самом доме: звяканье разбившейся фарфоровой кружки, которую неловкая дочь Матрёна уронила на кафельный пол, — не научилась ещё девка городской ловкости да манерам, ругань Дуняшки, у которой что-то подгорело на плите, шорох мыши, обманутой тишиной, выскочившей из щели чем-нибудь поживиться... А потом ощущение опасности проходило, и Распутин веселел.
Когда ему было весело, он отправлялся на Строгановскую улицу, в «Виллу Роде» — самое весёлое место в Питере. Внешне «Вилла» была заведением неприметным: большой деревянный дом, смахивающий на неухоженную дачу, расположенную на балтийском взморье, может быть, только круглый фонарь веранды придавал дому какой-то задиристо-хмельной вид, а так больше ничего приметного, всё было как и везде: забор вокруг дома, высокий, прочный, с куцыми жидкими деревцами, возвышавшимися над зубчатым срезом, собаки, как в хорошем поместье, которое надо охранять от разграбления. Около забора — коновязь, обязательная принадлежность «присутственных» и прочих мест, ресторан подходил под разряд «прочих», вокруг — неказистые домики Новой Деревни, похожие на собачьи будки.
Народ тут жил небогатый, но сама «Вилла» была богатой, владел ею оборотистый человек, обрусевший француз Алоис Роде, понимавший толк в еде, большой специалист по соусам и паштетам, считавший, что в еде главное — это соус.
Если будет вкусный соус, клиент проглотит с ним что угодно, даже кусок фанеры, не говоря уже о старом жёстком мясе или сносившейся кожаной подошве, оторвавшейся от дырявого башмака. Алоис любил рассказывать историю о том, как Наполеон скормил однажды гостям свои фехтовальные перчатки и гости остались довольны вкусным блюдом, поданным им; они даже не почувствовали, что это была несъедобная деталь боевого туалета драчливого мужчины, — блюдо было подано с великолепнейшим грибным соусом. Алоис Роде умел готовить соусы как никто в России.
В ресторане у него всегда было полно клиентов.
Когда приезжал Распутин, Алоис сам выходил к гостю, обнимался с ним и провожал в отдельный кабинет, где в кадках стояли два гигантских фикуса.
— Во вымахали! — одобрительно шмыгал простуженным носом Распутин, глядя на фикусы. — Как два дуба на перекрёстке нескольких дорог.
В такие минуты, попав из промозглого питерского холода в тепло, Распутин чувствовал себя философом.
— Отец Григорий, что прикажете подать для разгона? — интересовался Алоис, внимательно ощупывая глазами Распутина, стараясь понять, в каком состоянии тот находится. — Как обычно, слабосолёного сига с крымской мадерой? Или астраханского залома с холодной «монополью»?
— Сиг с крымской мадерой — это хорошо, — гудел Распутин, усаживаясь за стол, — подавай сига с мадерой. А когда наберём разгон — я свистну.
— Там — по списку, который я приготовил.
— Хорошо, там по списку. — С этим Распутин был согласен.
Начинался пир. Распутин всегда пил много, долго не пьянел, а потом в нём словно бы что-то отказывало, он стремительно слабел и опускал голову на стол. Случалось — на несколько минут отключался, всхрапывал, выбрызгивая ноздрями соус из блюдца — соус ему подавали к любимой рыбной стротанине, Алоис специально для строганины морозил толстоспинных, затёкших жиром муксунов, — и через десять минут вновь делался бодрым и сильным, готовым снова одолеть ведро «мадерцы». А то и полтора ведра.