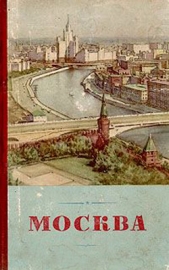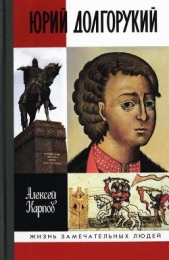Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)

Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник) читать книгу онлайн
ДВА бестселлера одним томом. Исторические романы о первой Москве – от основания города до его гибели во время Батыева нашествия.«Москва слезам не верит» – эта поговорка рождена во тьме веков, как и легенда о том, что наша столица якобы «проклята от рождения». Был ли Юрий Долгорукий основателем Москвы – или это всего лишь миф? Почему его ненавидели все современники (в летописях о нем ни единого доброго слова)? Убивал ли он боярина Кучку и если да, то за что – чтобы прибрать к рукам перспективное селение на берегу Москвы-реки или из-за женщины? Кто героически защищал Москву в 1238 году от Батыевых полчищ? И как невеликий град стал для врагов «злым городом», умывшись не слезами, а кровью?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Виктор Зименков Гибель Москвы
Глава 1
Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович опалился на Василька за дерзкие речи, бранил брехом да погнал из стольного града в глухую пустошь.
Иной раз с удивлением вопрошал себя Василько: не приснилось ли ему веселое и удалое житие во городе, да во Владимире? Впрямь ли он пировал в сенях великокняжеского терема, тешился зеленым вином, обнимал разбитных и крашеных девок? Впрямь ли он врывался на верном коне в стан неприятеля, топтал в землю супротивников, а затем, истомившийся и израненный, со смущением внимал похвалу соратников? Впрямь ли иные славные мужи почитали за честь видеть его своим зятем, и мечта затмить славу Александра Поповича не казалась призрачной?
Но капризная память, выплескивая на мгновения те пресветлые денечки, пеняла ему за то, что по младости и скудоумию он так и не взял от светлой жизни ни окованных ларей с серебристыми мехами, ни злата-серебра, ни челяди многочисленной, ни тучных сел, ни жены высокородной.
И вот его удел изгойский: мир сузился до захудалого сельца на задворках Залесья, в лесах вятических, дремучих.
Василько, накинув на плечи кожух, вышел на сени. Отсюда, с господского холма, далеко простирался окоем. Он с первых дней своего заточения только и находил отраду в созерцании полегших перед ним лесов.
Здесь Русь не шла покойным мерным шагом, как на плоском Ополье, но озорно танцевала с холма на холм. Холмы те лесом поросли, и обложил тот лес плюгавое селишко Василька кругом, и манил тот лес в свои темные застывшие глубины, звал попытать силушку, поискать прямоезжую дороженьку в земли незнаемые, вольные и дивно украшенные. А еще меж холмов вдруг блеснет речная гладь, заискрится под ясным солнышком, укажет чистый путь к Владимиру. Только не поплывет Василько во Владимир, встретит его стольный град бесчестием и злобой, не будет он искать дороженьки прямоезжей, ибо сложит на той дороженьке буйную голову.
Все, сотворенное здесь человеком, казалось Васильку худым и нелепым. Неказисты были избы крестьян, подпертая столпом церквушка, плох был и тын, опоясывавший подворье Василька. Не перенесет тын лютую игру метелей и упрямую тяжесть сугробов – завалится и откроет всему честному миру скудность Василька.
Село досталось Васильку не от княжеских щедрот. Он выменял его у боярина, тучного и похотливого. О той мене много было пересудов в стольном граде. Где это видано, где это слыхано, чтобы за село красное с починками и деревеньками, чистыми водами, пожнями и пашнями давали рабу – девку вертлявую, злообразную, злоязычную? Но боярин и Василько охотно ударили по рукам.
Боярин тешился черноокой болгаркой – о вотчине не печалился. Село ведь захудалое, поотдалелое; нет от него прибытка ни в людях, ни в скотах, ни в мехах; и путь от Владимира до села тяжек: почти семь ден водою и горою.
Василько, совсем было потерявший голову от того, что кроме любовных утех раба любила сладко есть, носить паволоку, каменья драгоценные, и потому совсем истомила его просьбами, упреками и капризами, простился с ней без сожаления. Еще ему было по сердцу, что село находилось неподалеку от Москвы, города, где он народился и жили его мать и сестра.
До опалы Василько лишь однажды посетил свою землицу: привез мать ради сытого житья ее и догляду за селом, два дня томился от безделья и материнских поучений да отьехал прочь с легким сердцем, не чая быть накрепко прикованным судьбой к этому месту.
Вспомнив о матери, Василько вздохнул от сердца. Грешен был – мало заботился о ней. Мнилось ему, что многие печалования не к лицу удалого дружинника. Потому не скрасил он последние материнские дни словом ласковым, не услышал ее вздоха конечного, не увидел прощальной слезы на скованном смертным дыханием родном лике. Лишь холмик подле церквушки, да содрогание душевное, да память о теплом, сытом и ласковом – вот и все, что осталось от матери. И немного-то опоздал Василько, так как мать преставилась за две седмицы до его изгнания. Отошла тихо, скоро. Сейчас ее душа, верно, блаженствует на небеси: упокоилась она в храме Господнем.
Дворовые рассказывали Васильку, что в свой последний день мать стала перебирать рухлядь и немало опечалилась, заметив, что от длительного лежания потерлась на сгибах сорочка и потускнела ее белизна. В ней она когда-то шла под венец, и в ней ей надобно, обычая ради, предстать перед Богом. Затем она поведала ключнику Анфиму, что видела во сне печального Василька, и настойчиво убеждала, мол, этот сон не к добру и нужно в церковь идти, свечу поставить, помолиться и многие поклоны творить.
В полупустой холодной и пыльной церквушке мать не поднялась на хоры, но скромно встала подле иконы Богоматери и усердно молилась. Аглая, жена дворового Павши, молвила Васильку, что никто и не приметил, как она упала.
– Уже служба отошла. Я жду-пожду госпожу подле храма, а ее все нет и нет. Кинулась в храм – она лежит бездыханно, – рекла Аглая с удивленным и сокрушенным видом.
Она трепетно призналась, что заметила поднимавшееся над усопшей едва зримое облачко, и напоследок благоговейно поведала:
– Сказывал отец Варфоломей, что это ее душа вознеслась на небеси.
Не утешило Василька это странное признание. Часто грезилась ему одинокая мать, лежавшая с заголившимися ногами на истоптанном студеном полу в окружении чужих и равнодушных людей, со страхом и любопытством рассматривающих то, что так дорого, сокровенно и тягостно. И еще поднималась злость на Аглаю, которая, верно, точила у церкви лясы с товарками вместо того, чтобы оберегать госпожу.
Со двора послышался, обрывая печальные думы Василька, яростный лай собак. У ворот зашлись в быстром хороводе дворовые псы, брехали так зло и неистово, будто лихие люди ломились на подворье.
Послышалось дверное хлопанье, из дворской клети выскочил Павша. С утра суетился Павша: со скрежетом убирал с переднего двора нападавший за ночь снег, после обеда поутих и вот, на тебе – выполз на белый свет, идет важно, будто володетель степенный, а не обельный холоп.
Дворовой челяди у Василька раз-два и обчелся. Ключник Анфим – немощный старец, весь иссохший и побелевший от неправедно прожитых лет, более думающий, как бы дать роздых своему болезненному телу, чем об именьице господском. Очи бы Василька не смотрели на того Анфима, гнать надобно ветхого ключника прочь со двора.
Павша – приземистый, широкогрудый, косматый, немногословный и кроткий, несмотря на свое грубое крупное лицо, придававшее ему суровый вид и невольно заставлявшее настораживаться стороннего доброго человека; вечно ходивший по двору в драной сермяге да в колпаке на собачьем меху, более всего боявшийся не нахмуренных бровей господина, но злобной жены своей Аглаи.
Сухая и длинная, как приворотная жердь, Аглая слыла женкой сварливой, донельзя охочей на многие придирки, задирки, криканья непотребные; редкий день она не кляла мужа и непоседливых чад, которых у нее было то ли пять, то ли шесть. Василько не мог о том прямо сказать.
Сказывал Анфим, что были у прежнего володетеля еще холопишки, но иные вымерли, а иные разбежались розно. Есть у Василька еще один холоп, понаехавший в село вместе с ним из Владимира. Звали его Пургасом.
«Кого это несет в такую пору?» – встревожился Василько, наблюдая, как Павша открывает ворота. Он постоянно испытывал надежду и страх, когда на его подворье являлись незвано.
Страх он испытывал из-за опасения, что великий князь, вспомнив о нем, повелит отчину отобрать, а самого прикажет погнать под крепкой стражей в студеные тундрявые земли. И наедут с гиканьем и многоречивой бранью люди, надругаются над ним, затем бросят повязанного и посрамленного в сани, накинут на голову смердящую овчину и повезут по петляющей в лесах заснеженной дороге.
Он все поджидал гонца из Владимира с доброй вестью. Даже во сне ему снился этот гонец: ражий молодец с густыми заиндевелыми бровями и морозным румянцем на осунувшемся лице. В багряных портищах, вестимо. Смотрит весело и участливо, правит речи долгожданные. Ты-де совсем засиделся здесь, Василько; ты-де садись немедля на коня, ибо солнце наше, великий князь Юрий Всеволодович, нелюбье свое отложил и наказал тебе прибыть в стольный град.