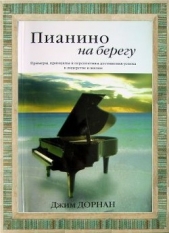Отречение

Отречение читать книгу онлайн
Это шестой роман цикла «Государи московские». В нем повествуется о подчинении Москве Суздальско-Нижегородского и Тверского княжеств, о борьбе с Литвой в период, когда Русь начинает превращаться в Россию и выходит на арену мировой истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Будет теперича Москва белокаменна! — И все трое молча склонили головы уже не впервой услышанному речению. Слово было изречено — и как прилипло, пригодилось, по-люби пришло до того, что в песнях позднейшая краснокирпичная Москва упорно продолжала называться белокаменною.
Услюм коротко сказывал о новой жене: порядливая, обиходная, жалимая — для него это были главные бабьи добродетели, повестил о детях, с прежнего быванья не чужих теперь и Никите. Никита молча кивал головою. Уже садясь на коня, вымолвил:
— Не князь и затеял! Митрополит! Наш владыка далеко чует: быть может, Ольгердово нахождение! Так что, браток, нам с тобою тоже у етого дела негоже спать. Ну, бывай! На спусках-то силом не держи лошади. Она сама почует, как ей способней!
ГЛАВА 49
Алексий мог торжествовать. Задуманное им строительство каменного Кремника было утверждено в январе прилюдно и достойно, соборным решением всего боярского синклита. Юный московский князь сидел на резном золоченом стольце в шапке Мономаха и был очень горд собою. Широкое лицо князя то вспыхивало, то бледнело. Он сам — сам! — правит думою. Владимир сидел на другом стольце, пониже, то и дело взглядывая любопытно на двоюродного старшего брата. Бояре собрались все: и великие думные бояра, и те, от кого Алексий чаял хоть какой благостыни — серебром ли, людьми, конями, снедным припасом или какою иною справою.
Вельяминовы были все четверо: тысяцкий Василий Василич, Федор Воронец
— боярин княжой, Тимофей, на днях утешенный титулом окольничего, и Юрий Грунка — младший из четырех братьев. Для них строительство Кремника — дело чести.
Четверо братьев Алексия: Феофан, Матвей (обадумные бояра), Константин и Александр Плещей сидели кучно, неизменною опорою владыки во всех его заводах и замыслах.
Акинфичи явились тоже всем кланом: Андрей Иваныч, ныне старший в роде, боярин княжой, Владимир, этому боярство обещано днями, без того Акинфичей было и на дело не своротить, Роман Каменский и Михаил — вечные соперники Вельяминовых (ныне, слышно обвиняют Василия Василича в сговоре с Олегом Рязанским!). С ними двоюродник Акинфичей, Александр Иваныч Морхинин, тоже боярин, и старший сын его Григорий Пушка (прозванный так за бешеный нрав). Все многовотчинные, богатые, настырные, и склонить их на совокупное дело Алексию было труднее всего.
За ними Зерновы (а за Зерновыми — торговая Кострома!). Дальше — Кобылины, все пять сыновей покойного Андрея и среди них — входящий в силу московский посол в Орде Федор Кошка, с которым Алексий уже советуется подчас, как с равным.
Приглашен и Иван Квашня, сын покойного Родиона и Клавдии Акинфичны. Молод, но за ним волости Родионовы и дружина, да и Акинфичи за него.
Тут и старые бояра московские: Василий Окатьич Дмитрий Минич, Афинеевы, Сорокоумовы, Редегины — Семен Михалыч с Елизаром и Иван Мороз.
Тут и обоярившиеся княжата Фоминские, через разведенную вторую жену Симеона родичи московскому княжескому дому. Их тоже четверо, и двое — Михайло Крюк и Иван Собака — уже заседают в думе. Этим боярство обещано вскоре как награда за постройку каменной крепости.
Сидит тут и другой потомок смоленских княжат Александр Всеволож, выехавший на Москву, когда его вотчину захватил Ольгерд, и ставший тут боярином. Приехал и Дмитрий Монастырев с Белоозера, по сложным семейным связям через ярославскую княгиню, дочь Калиты, тоже родич московских князей.
Из радонежских вотчинников, почитателей Сергия, приглашены Федор Беклемиш с Фролом — и тоже ради возведения белокаменного Кремля…
Сколько поездок, речей, уговоров! Сколько упрашиваний, стыденья и угроз! Ведь каждый из предсидящих состоит в доле и обещался строить своим коштом кто башню, кто прясло стены, кто хоть возить камень под основания стен… И все это труд владыки Алексия, коего здесь нет, как нет и многих иных, кого он тоже уговорил, принудил, застращал, заставил, как, например, вдову Симеона Марию. Ибо только он знает до конца, на что идет и на что толкает князя Дмитрия и как нужна в нынешней, уже недальней трудноте каменная крепость Москве!
Всесвятский пожар премного помог Алексию. Будь старый Кремник жив, толковали бы еще до морковкина заговенья. Но тут — все одно надобно подымать город наново! Заставил. Содеял. И вручил князю на блюде златом. И не скажешь, что дар! Во владычном летописании записано: Дмитрий князь с братом Владимиром и боярами, посидев и подумав, решили… Ничего бы не решили без него! Акинфичи насмерть поругались бы с Вельяминовыми, юному князю стали нашептывать в два уха каждый свое — и, дай бог, великого княженья не истеряли бы!
И что долит? Что неволит к ссорам? Что мешает им всем, забывши себя, мыслить токмо о Руси Великой? Верно, зажиток, дети, род, родовое добро. Но и без того неможно! Он может. (Но он — монах!) И вот еще почему надобны обители общежительные и мудрые иноки, отрешившие от себя всякую собину, всякий зажиток и повинные нести смелое слово к престолу силы, указуя вельможам и князьям!
Святая Русь! Возможна ли она? Но вот же он, Алексий, строит ее, возводит не токмо каменные, но духовные стены! И вот еще почему надобен Сергий. Без него и он, Алексий, становится из пастыря духовного всего лишь наместником княжеского престола, мужем, в миру сущим и мирскою прелестью одержимым.
В час, когда происходило заседание думы, решившей возведение каменного Кремника, Алексий стоял на молитве у себя в иконном покое новоотстроенных владычных хором…
И вот теперь по слову его на Москву возят камень. И уже навожены горы. И в оттаявшей земле роют глубокие ямы под основания каменных костров и стен. И Кремник вновь — словно татарский стан.
Волокуши тянут по грязи квадры камня. Телеги, телеги, телеги с глиною и землей. Тысячи мужиков в посконине, в лаптях, в суконных зипунах. Часто летит земля, ворочаются в грязи измазанные до глаз глиною землекопы.
Мастеры, созванные аж изо Пскова, ходят, глядят, меряют, прикидывая что-то свое. Им тут тоже впервой и — жутковато. Во Пскове стена стоит, почитай, на скале, на известняковой плите.
Иван Вельяминов молча, надменно переведя бровью, сам идет в суконном простом зипуне, высокие сапоги в глине до колен, на лбу — приставший шмат грязи. Тяжело дышит: копал.
В Иване уже начала сказываться вельяминовская порода. Пошла осыпь, и он сам, распихав оробевших мужиков, взялся за заступ и не уходил, пока не вычерпали весь обвал и не укрепили жердями и кольями стену раскопа.
Сейчас, отряхивая руки, взмокший, шумно дыша, он, измеряя глазом глубину, прошает мастера: скоро ли? Тот мычит, медлит. (Эх, набольшего, как на грех, нетути, а сыну тысяцкого неможно не отвечать!) Начинает осторожно:
— От великой тягости камня… — И машет рукой (пошто врать!). — Не ведаю, боярин! — Честно говорит: — Набольшего нать! Глуби вроде с избытком хватило, дак осыпь-от не крепка… (Он говорит якая, по-скопски, и получается у него «крепкя»). — Думает и решает наконец: — Дубовые слеги ежели? Едак ряд, и едак-то! — Решившись и охрабрев, мастер машет мужикам в раскопе: — Приканчивай!
Иван Вельяминов сам идет вдоль рвов искать набольшего плесковичей. Но тот в толпе машет руками, объясняя что-то. Оборачивает к Ивану слепое, со взвихренною бородою лицо. Видно, весь в мыслях иных. Слушает, склонив голову набок, подставя ухо, кивает, не понимая ничего. Переспрашивает, начиная наконец вникать. Давешний мастер, углядевши Вельяминова, уже бежит следом от раскопа.
— Дуб, дуб! — кричит набольший. — Кто-нита тамо! Ты, Твердята? Дуб!
— Знамо, я и сам смекнул, тово! — торопится обрадованный мастер.
— На врубки кладовай, — поясняет старшой, живописуя на пальцах, как надобно, и, оборотясь вновь к боярину, трясет кудлатою головою, кричит: — Ищо два дни, и по всему раскопу учнем слеги класти! — И, махнувши рукою, забыв и Твердяту и боярина, бежит вновь в толпу работных, углядев новую замятню.
Иван, понявши, что он более не нужен, обходя кучи камня, перешагивая бревна, пробиваясь средь груженых возов, достигает наконец своего коня, которого уже давно держит стремянный, молча принимает повод, легко и красиво подымается в седло и, удерживая жеребца удилами, с седла, прищуря глаза, озирает еще раз тьмочисленное кипение работного люда. Пахнет глиной, потом, землей, погребной свежестью каменных куч, пахнет весной, и он глядит на все это, что придет вершить ему вослед за отцом — ибо он наследственный московский тысяцкий, иначе уже и не мыслит себя (и так же мыслят, встречая Ивана Вельяминова на улице, тысячи московского люду), — и вздыхает широко, с гордым сознанием своей причастности и неотделимости ото всего, что вершится ныне на Москве.