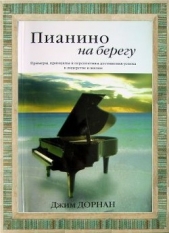Отречение

Отречение читать книгу онлайн
Это шестой роман цикла «Государи московские». В нем повествуется о подчинении Москве Суздальско-Нижегородского и Тверского княжеств, о борьбе с Литвой в период, когда Русь начинает превращаться в Россию и выходит на арену мировой истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но слишком еще печально выглядела выгоревшая целиком и едва-едва восстановленная Москва. Еще черными закоптелыми остовами высили каменные церкви в сиротливом обрамлении пожоги и груд только-только навезенных и едва ошкуренных бревен. Слишком не к свадьбе гляделась деловитая стукотня топоров, ряды саней и разъезженные, в навозе и черной угольной грязи улицы. И Кремник (Кремль, как называли его гости-сурожане, генуэзские фряги) еще весь был в развалах и осыпях рухнувшей испепеленной стены, в деловом кипении древоделей, что возводили пока амбары, житный двор, бертьяницы, конюшни и погреба, не трогая выгоревших теремов и двора митрополичьего. Словом, город рос, возникал, но не был еще готов к тому, чтобы править в нем княжескую свадьбу. Ну а во Владимире (стольном городе как-никак!) не захотели московские бояре, Вельяминовы, Бяконтовы, Акинфовы воспротивились, а за ними и вся дума. Так и выбрали ближнюю Коломну.
Пятнадцатилетний подросток, с первым еще юношеским томлением по ночам, еще ни разу не изведавший «этого», Дмитрий, ожидаючи нареченную свою, извелся совсем. Все уже стало неважно: и зависть к Ивану Вельяминову, спокойное превосходство которого приводило его то в отчаяние, то в неистовый гнев, и подогреваемая многими юношеская жажда повелевать, править, двигать полки (хотя он и доселе не мог бы сказать внятно, какие полки, куда и зачем), и успехи в верховой езде, в стрельбе из лука и рубке саблей, и отроческое упрямство перед учителем, когда нечего противопоставить взрослой мудрости наставника, а возражать хочется до зуда во всем теле, — упрямство, все чаще испытываемое им по отношению к Алексию (почему он и братьев митрополита, всех Бяконтовых начинал безотчетно сторониться и избегать), и ревность к двоюродному брату Владимиру, слегка лишь умеряемая возрастом — Володя был двумя годами младше и еще мальчик, — и многое, многое другое, чего и не пересказать, все отошло посторонь, отодвинулось, потеряло остроту и вкус, позабылось перед тем, что ожидало его теперь, ныне, вот уже в считанное количество дней. Свадьба должна была состояться на Масленой note 5.
Уже в Коломну съезжались многочисленные гости из Москвы, Рузы, Можая, Юрьева-Польского, Дмитрова, Костромы, Переяславля, Владимира, Ростова, Стародуба, Нижнего и Суздаля, даже из Рязани, уже три хора песельниц, ревниво гадающих, кто из них лучше, собрались в коломенских хоромах и вполголоса пробовали свое мастерство, уже пекли, варили и стряпали, а Дмитрий все еще не ведал облика невесты своей. Глядел на молодую жену Микулы и приходил в отчаяние. Княжна Марья была и строга и холодна на его мальчишечий погляд, и окажись он с такою вместе, не ведал бы, как и поступить.
Микула утешал молодого князя, как мог. Наедине как-то выспросил, сумеет ли тот не сплоховать с женою. Дмитрий, отчаянно, пятнами краснея, признался, пряча глаза, что не ведает точно, как это происходит, и Микула спокойно и внятно объяснил ему, в чем тут люди отличны от быков и коней, случки коих Дмитрию приходило наблюдать неоднократно.
Так вот оно и подходило и подкатывало, пока наконец не подошло и жениха не помчали в таком же облаке морозного сверкающего вихря с Воробьевых гор в Коломну, и дружки — молодая холостежь из виднейших боярских родов, перевязанные полотенцами, с гиканьем и свистом поскакали впереди и вослед кожаного красного расписного княжого возка, в котором бешеные выстоявшиеся кони несли к брачной постели надежду Москвы.
Перед самой Коломной жених потребовал гневно, чтобы его выпустили из возка и подали верхового коня. А то — словно девку везут! И лихо поскакал впереди своей разряженной молодой дружины. (Скакал и чаял: скакать и скакать бы еще, не то слезешь с седла — и оробеешь вдруг и сразу до стыдноты.) Но вот и коломенские рубленые городни, и толпы народа, и золото облачений духовенства, и клики. И — эх! — разгоряченные всадники врываются в город, в свалку раскидывают загату поперек пути, Дмитрий кидает серебро горстями — путь свободен! Они скачут к терему. Слезая с седла, он чуть было не падает, нога запуталась в стремени, но дружки подхватывают со сторон, едва не вносят, от лишнего усердия, на крыльцо. Федор Кошка с Иваном Родионовым Квашней первые понимают свою промашку, ставят князя на ноги, отпихивают других, и вот он подымается по ступеням, по венецейским сукнам, чеканя шаг, и краснеет, и бледнеет, и мурашки бегут по коже, и пот промочил уже всю нижнюю, хрусткого шелку рубаху на спине.
Дальнейшее — как в тумане. Громкие голоса, хор, «здравствование». Дружки стягивают с него дорожный опашень и зипун, кто-то соображает переменить князю рубаху, вытирают вином лицо, шею, спину и грудь. И вот свежая рубаха холодит плечи, и Федор Кошка на коленях хлопочет с тканым поясом, подносят зипун цареградской парчи, застегивают праздничный золотой с капторгами пояс, причесывают костяным новогородским гребнем непослушные, торчащие врозь волосы, ободряют, подмигивают, натягивают на ноги тонкие красные сапоги… За стеною, в столовой горнице, уже запевает хор:
А-ох, у нашей свахи, а-а, Золотой кокошник Головушку клонит, а-а, Жемчужныя серьги Уши обтянули, а-а, Бобровая шуба Плечи обломила, а-а…
Слышится рык свадебного тысяцкого, великого боярина Василия Окатьича. В горницу вступают Дмитрий Зерно и Андрей Иваныч Акинфов, кланяются, зовут князя ко столу. Он идет, мало что соображая и видя, его сажают, расчищая дорогу, гремит хор:
Налетали, налетали ясны сокола, Ой рано, ой рано, ой рано моё!
В горнице жарко от множества гостей, от целых пучков восковых изукрашенных свеч в шандалах. Близит вывод невесты к столу (чин кое в чем нарушен, в Нижнем уже было первое застолье, но — без жениха), и вот ведут, ведут! Его подталкивают, он встает, неживыми руками мнет бахрому расстеленного по краю стола полотенца.
Евдокия, четырнадцатилетняя суздальская княжна, уже развившаяся, с высокою грудью, огромными голубыми глазами, завешенная до бровей густою бахромой дорогой шелковой шали, отчего виднее становится нежный обвод круглящихся щек и белой шеи, охваченной бирюзовым наборочником, останавливается посреди горницы. Румянец вспыхивает у нее на лице, ходит волнами, и Дмитрий густо, облегченно и благодарно краснеет. Невеста куда проще Микулинской жены, проще и краше, на его погляд. Он видит близко-поблизку испуганно-любопытный взгляд, сочные губы, не ведая в сей миг, что любуется в девушке тем, что нравилось когда-то его прадеду и что будет принято на Москве и века спустя как первый признак истинной женской красоты ( о чем Иван Грозный когда-то напишет английской королеве, требуя найти ему невесту «попухлявее»).
Ничего такого не мыслит московский князь, он и вовсе ни о чем не в состоянии ныне путем помыслить, но невеста ему нравится — до сладкого жара в теле, до румянца, и он едва не роняет чару густого меду, которую подносит ему на серебряном подносе суздальская княжна, поддерживаемая со сторон двумя вывожальницами. И первый, через стол, поцелуй — не поцелуй, а лишь тронули губами друг друга… Оглушающе гремит хор коломенских песельниц, и вот она обернулась, уходит…
Там, в задней, когда ее разоболокают подруги, Овдотья, смеясь, крутит головой, говорит:
— Красный, красный какой! Как рак! Ой, подружки, не могу! И нос лаптем! — И закатывается счастливым, заливистым хохотом.
Закусок, которыми уставлен стол, почти никто не трогает, не до того. Все уже торопятся в сани.
Отец невесты, Дмитрий Константиныч, трясущимися руками благословляет ставших перед ним на колени на расстеленном тулупе московского князя и младшую дочерь, не столь понимая, сколь чувствуя, что с этим браком окончательно отрекается от великого стола владимирского и гордых надежд покойного родителя своего и теперь остается ему одна только услада — что его внуки от дочери и этого неуклюжего отрока наследуют все же вышнюю власть в Русской земле! А ему, ему хоть это вот утешение, подготовленное дальновидным Алексием, что он как-никак тесть, родич, а не боярин служилый в московской думе, каковыми становятся ныне все новые и новые мелкие удельные князья, и что было бы уже и вовсе соромно, прямо-таки непереносно ему, вчерашнему великому князю Залесской Руси! И потому еще дрожат сухие, утратившие властную силу руки князя и икона, которой он обносит троекратно головы жениха с невестою, вздрагивает у него в руках… Не кончены, далеко не кончены еще спор и злобы, и аж до царя Василия Шуйского, до смутного времени дотянется ниточка трудной борьбы служений и измен князей суздальских дому московских государей… Но сейчас здесь старый человек, благословляющий дочерь с женихом, навек отрекается высшей власти, и не потому ли еще так увлажнены его глаза и предательская слеза, нежданно проблеснув, прячется в долгой бороде Дмитрия Константиныча?