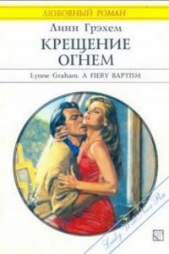Крещение (др. изд.)

Крещение (др. изд.) читать книгу онлайн
Роман известного советского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ивана Ивановича Акулова (1922—1988) посвящен трагическим событиям
первого года Великой Отечественной войны. Два юных деревенских парня застигнуты врасплох начавшейся войной. Один из них, уже достигший призывного возраста, получает повестку в военкомат, хотя совсем не пылает желанием идти на фронт. Другой — активный комсомолец, невзирая на свои семнадцать лет, идет в ополчение добровольно.
Ускоренные военные курсы, оборвавшаяся первая любовь — и взвод ополченцев с нашими героями оказывается на переднем краю надвигающейся германской армады. Испытание огнем покажет, кто есть кто…
По роману в 2009 году был снят фильм «И была война», режиссер Алексей Феоктистов, в главных ролях: Анатолий Котенёв, Алексей Булдаков, Алексей Панин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Слушай, землячок, а…
— Милый сын, вынеси.
— Помоги, говорю, застрелю ведь!
Малков выбил у солдата винтовку и побежал по дорожке, увидел Ольгу, поднимавшую раненого и подставлявшую свое плечо под его руку. С разбегу он не удержался, налетел на них и сбил обоих с ног. Потом он тащил ее между яблонь, а она кричала и била его по спине своим маленьким кулачком. Когда они переметнулись через пролом в стене, в ту же самую минуту шесть танков, уронив противоположную стену, вошли в сад и открыли огонь из пулеметов и пушек по ползающим по земле, по яблоням, по прямым междурядьям и диагоналям. Пять танков веером пошли на деревню, а один, рыча и дергаясь, начал давить раненых, перемешивая тела их с землей, тряпками, обломками деревьев. Казалось, под огнем и железом ничто живое не могло уберечься, однако тот солдат, что осудил Захара Анисимовича за неосторожность, не только остался жив, но еще сберег бутылку с горючей смесью, принесенную с собой. И когда стальное чудовище, заляпанное человеческой кровью, повернулось к нему задом, метко бросил бутылку на его жалюзи. Взметнувшееся пламя громко фукнуло и, разбросав горящие брызги, начало трубно свистеть и трещать.
— Вот так–то лучше, — сказал солдат и, будто ступил на ногу, которой у него не было, упал под горящие брызги…
* * *
Ни та критическая минута, когда оборона полка едва устояла под напором немцев, ни потеря минометной батареи, ни страшный налет бомбардировщиков на деревню не потрясли так глубоко Заварухина, как весть о гибели раненых, которых не успели переправить на ту сторону. Надо было предпринимать какие–то срочные меры против прорвавшихся немецких танков, а командир полка с налитым гневом лицом все еще, скрипя зубами, вспоминал Коровина самыми недобрыми словами. И только тогда, когда до штаба полка донесся рокот моторов, а в штабе началась беготня и суматоха, Заварухин поднял глаза на Писарева, стоявшего перед ним в нетерпеливой позе, и неузнаваемо спокойным голосом сказал:
— Прикажите им, — он кивнул на стену, за которой слышалась беготня, — прикажите им вооружиться бутылками и занять оборону. Если их на самом деле только шесть, они для нас не страшны.
Писарев, услышав гул немецких танков, серьезно оробел, неловко почувствовал, как отлила от лица вся кровь, но твердый и уверенный голос Заварухина помог Писареву взять себя в руки, и, выйдя от командира, он с тем же заварухинским спокойствием передал штабным:
— Вооружаться бутылками. Всем. Будем жечь танки. Они для нас не страшны.
Заварухин слышал в голосе Писарева интонации своего голоса, и что–то давно пережитое и уже забытое ворохнулось на сердце. Он взял телефонную трубку и назвал свой номер:
— Я —23. «Соболь», «Дунай», «Долото». Я —23. С востока к деревне прорвались танки. Приказываю: всем стоять на своих местах. Танки жечь! Десант расстреливать! Я на своем месте. Я — 23.
В ответ на этот приказ кто–то пытался о чем–то спросить, но Заварухин положил трубку и вышел на крыльцо. После бомбардировки деревня все еще горела, и горклый дым жидкой пеленой закрывал проглянувшее на закате солнце. Во дворе штабной избы лежал подсеченный взрывом старый тополь, а по его шершавому стволу туда и обратно бегала ласка.
— Она уж давно так–то, — сказал Минаков, пронося мимо Заварухина черные бутылки в поле шинели.
А Заварухин подумал свое, о тополе: ориентиром для немцев служил.
В десятке шагов от крыльца тянулся ход сообщения, который пересекал улицу, нырял под прясла огородов и поднимался на увал. Сейчас ход сообщения резервный батальон приспособил для обороны, в нем сидели солдаты, и Минаков подавал им бутылки. Возвращаясь обратно, он с опаской, чтобы не задеть командира своим карабином, обошел его и сказал:
— Вы бы так–то не стояли, Иван Григорьевич. Не ровен час, двоих уж прихватило. Палят.
Заварухину было приятно, что ординарец назвал его по имени–отчеству: значит, Минаков, рядовой боец, отлично понимал надвигавшуюся опасность и считал, что перед нею все равны. «И хорошо, — подумал Заварухин. — Потому и стоим, черт возьми, перед броней стоим, что все равны, все одинаково мыслим, все в ответе…»
Над крышей избы пролетело два снаряда с резким, стремительным свистом, вслед им обронил пустую очередь крупнокалиберный пулемет — пули зло и коротко рвали воздух: «фить–фить–фить!» Едва уловимым дуновением обмахнуло лицо Заварухина и тут же расщепило круглый столбик крыльца, острая дранощепина воткнулась в землю и, покачиваясь, упала. На краю деревни, у сада, полыхала жаркая стрельба: нестройно спевались насквозь знакомые русские винтовки и пулеметы с рыкающими немецкими пулеметами и автоматами.
Заварухин спустился в ход сообщения и, подчиняясь странной окопной привычке, согнулся, утянув голову в воротник шипели, пошел на свой наблюдательный пункт, оборудованный на гребне увала. Бойцы нервно и сосредоточенно курили, томясь ближним боем. Увидев командиpa полка и связных, которые как хвост всегда волочились за ним, по–куриному приседали на дно узкой щели, и идущие перешагивали через них. За поворотом траншеи, уже на огородах, Заварухин столкнулся с Ольгой Коровиной; она шла навстречу как–то неловко, левым плечом вперед; только уж совсем близко он заметил, что из разлохмаченного рукава ее телогрейки каплет кровь. На ней не было берета, и неприбранные волосы падали на уши и глаза — она небрежно смахивала их здоровой правой рукой, сдувала, но, мокрые, они прилипали к вспотевшему лбу.
— Вот это уж совсем плохо, — не зная, что сказать, проговорил Заварухин. — Как же ты так неосторожно, а?
— Ничего не могу, Иван Григорьевич, — заплакала Ольга и по стене окопа сползла на дно. — Когда это кончится?
— Ну слезы–то зачем же, Олюшка?
— Ой, ничего не могу, Иван Григорьевич…
— Успокойся. Тебя сейчас перевяжут, — сказал Заварухин и поглядел на одного из связных — тот принял взгляд командира как приказание и, обрадовавшись делу, начал бережно, заглядывая в лицо Коровиной, стягивать с нее рукав телогрейки. Коровина, увидев Заварухина и бойцов, справилась с овладевшим ею страхом, перестала плакать, только морщилась от боли и все сдувала пряди волос с потного и мокрого лба, убирала их здоровой правой рукой. Она молчала, но свои слова «Ничего не могу, Иван Григорьевич» по–прежнему слышала совершенно громко и ясно, только слышала их как посторонняя, связывая с ними свою новую горькую мысль о том, что между нею, раненой, и Заварухиным с этими крепкими бойцами нет уже ничего общего. Они, здоровые и счастливые, уйдут делать свое дело, а она останется одна, уже больше не нужная им — теперь только обуза для них.
Ольга плохо понимала то, что делает возле нее боец, но знала, что и он, и Заварухин, все еще не уходивший и все еще смотревший на нее, и бойцы, стоявшие за плечом своего командира, — все они братья ей, были и будут братьями навечно. Эта мысль владела всем ее сердцем и была сильнее боли; в этой мысли заключалась ее жажда жить, ее надежда на жизнь, ее выстраданное убеждение.
Вражеская пуля ударила Ольгу Коровину в ладонь и вышла у локтя; Заварухин, поняв, что ранение тяжелое, но не смертельное, наклонился к Ольге и сказал с искренней улыбкой:
— Ты не тревожься, Олюшка, у тебя ничего опасного, Мало ли.
Ольга, все так же сдувая и убирая мокрые волосы с глаз, проговорила уже спекшимися нездорово–алыми губами:
— Иван Григорьевич, напишите Музе Петровне, ей напишите от меня, какие вы все милые.
— Об этом уж ты сама…
Заварухин не окончил фразы, потому что услышал за спиной своей удар, возню, тяжелое пыхтение, и тотчас же на него навалился кто–то, подмял под себя. Заварухин упал на бойца, который перевязывал Ольгу, а тот в свою очередь опрокинул и ее. Через кучу малу переметнулся кто–то, гремя котелком.
— Сейчас, сейчас, сейчас! — кто–то жарко дохнул чесноком в затылок Заварухина. — Конец!
Но взрыва не было. Поднявшись на ноги, все с ужасом увидели в двух–трех шагах от себя на дне траншеи массивное тело сто двадцатимиллиметровой мины, которая почему–то не разорвалась и пудовым подсвинком лежала в круто замешенной грязи окопа.