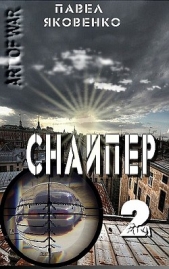Харбинские мотыльки
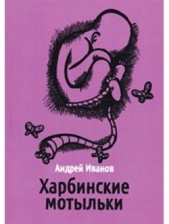
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стропилин отказывал себе во многом. К этому он привык, ибо отказывал себе во многом с детства, — но в последние годы он дошел до крайности, какой никогда прежде не знал, а только наблюдал в других людях и, обнаруживая в себе эту крайность, пугался, потому что не знал, что может за этим последовать. Его пугали умонастроения людей, с которыми он переписывался, и в которых он подозревал ту же крайность, и себя сдерживал, не писал им. Его раздражали лица людей в экипажах, и особенно тех, что усаживались в экипажи у Михайловских ворот, его возмущали лица людей, которые выходили из Ревельского клуба, — и он перестал ходить мимо Михайловских ворот. Его оскорблял вид женщин, что выходили из магазина Mood, их голоса его раздражали; он чувствовал себя совершенно раздавленным после разговора с человеком, который был одет лучше его, а если тот работал в каком-нибудь банке да к тому же говорил по-эстонски, а таких становилось все больше и больше, Стропилина охватывало беспокойство, которое было невозможно унять несколько дней. (Отчасти он понимал, что ненавидит Федорова именно за это; Федоров для Стропилина был сильным источником беспокойства.) Евгений Петрович избегал людей; он переставал здороваться с теми, кому удалось издаться, даже если книга была, в сущности, дрянь. Годы шли, а его книги все не было, работы подходящей тоже не было, как и надежды, что в череде однообразных дней будет хотя бы проблеск. Русские гимназии и школы закрывались. Все трудней и трудней Евгению Петровичу удавалось найти средства для издания журнала, в котором все меньше и меньше желали печататься, а если несли, то безоговорочно упрямствовали, не желали, чтоб он корректировал и делал замечания. Все это его угнетало. Мысли о том, кем будет его сын, не давали покоя…
«…ведь невозможно предугадать, кем станет этот улыбающийся мальчик, пусть он трижды мил, любезен, опрятен, прилежен и т. д. — может быть, в грядущем он станет анархистом, как Колегаев, или, как Ребров, будет ходить, неприкаянный. Был на днях у его дяди, Николая Трофимовича, зашел разговор о племяннике. Вернее, признаюсь, я сам подвел: хотелось услышать, что Николай Трофимович думает о Борисе.
— Борис на отца своего сильно похож, — сказал Николай Трофимович. — Совсем как он. Изобретатель. Я выкупал мамины драгоценности, которые сестра закладывала, чтобы выручить их всех. Он в долги со своими изобретениями залезал. Не умел вести дела. Работал там и тут, все мечтал о собственном ателье. Так ничего и не вышло. Уедет куда-нибудь, увлечется, а потом шлет телеграммы. Все так и утекало на опыты. Движущиеся картинки. Аппарат на колесах. Аквариумная дагеротипия. Фокусничанье. Бедных тоже жалел, сами как церковные мыши…
Мы немножко подвыпили с Николаем Трофимовичем; я — немножко, а он уже выпивши был, когда я пришел, и как еще выпили, он совсем разошелся. К нам подсела жена его, немка, тоже себе налила ликеру, и тут между ними разыгрался небольшой семейный спектакль.
Грета сказала, что Борис к ним приходит и назло сообщает неприятные вещи о том, как другие русские плохо живут, чем пытается задеть, как она считает, Николая Трофимовича, корит его этими россказнями. Например, она рассказала, как Борис приходил к ним как-то насчет писательницы ходатайствовать (насколько понимаю, речь шла о Гончаровой), а после того, как она умерла, приходил, описывал, как прошло на похоронах, говорил о ее несчастном мальчике, которого отправили куда-то в приют.
— Он это не просто так говорил, — настаивала Грета. — Не просто так. Он говорил так, словно мы обязаны были взять того мальчика к себе!
— Ну, что ты, нет, конечно, — отвечал Николай Трофимович.
— И еще подпись твою получить хотел, лотерейные билеты приносил, как будто мы очень богатые благотворительностью заниматься. Он не ради нее это делал, а тебя этим пытался уколоть, — сказала Грета и похлопала Николая Трофимовича по руке, и мне это показалось в высшей степени ироническим жестом. Похлопала нежно, улыбнулась, но все это был театр!
— Да нет, — отмахивался Николай Трофимович. — Зачем бы ему это надо было? Меня уколоть…
— Он обиду в сердце носит. Винит тебя. Хотя если и винить тут кого-то, так меня. Но это не имеет значения, потому что никто не виноват. И ты это должен понять и не думать.
— Да я и не думаю.
— Думаешь, я знаю, думаешь, — сказала Грета, повернулась ко мне и, твердо глядя в глаза мне, произнесла: — Ночи не спит, ворочается, думает.
Грета несколько раз в тот вечер сказала, что девушка Трюде, с которой все мы видели Бориса не раз (они вместе работают), очень хорошая. Несколько раз повторила:
— Я знала ее мать. Хорошая была женщина. Трюде в мать пошла. Ухаживает за слепым отцом. Это очень хорошая девушка.
Несколько раз повторила. К чему бы это? Говорила она так, словно хотела каким-то образом надавить на Николая Трофимовича, чтобы он что-то объяснил Борису. Женить она, что ли, хочет его? Но зачем ей это? В любом случае, Николай Трофимович усмехался, он пропустил ее слова о девушке Трюде мимо ушей.
В конце, когда Николай Трофимович вышел в уборную, Грета мне сказала, что у него со здоровьем что-то совсем разладилось в последние дни. Я это и сам знал, и навещать ходил, — потому и пришел, в конце концов, — она так сказала, точно я не знал этого и забрел случайно. Неужели не поняла?
— Все было ничего-ничего, и вдруг пошло-поехало.
На глаза навернулись слезы! Это было так неожиданно: она схватила платок и заплакала! Мне стало страшно, будто Николай Трофимович не в уборную вышел, а умер.
Я быстро собрался, попрощались, и ушел. В тот вечер у меня было очень тревожно на душе, я шел и думал: никогда не знаешь, как и когда это может схватить. Все это так неожиданно. И то, как жена Николая Трофимовича схватила платок, вышла, заплакав, мне не давало покоя. Точно это сигнал мне был какой-то, знак об отчаянии каком-то, в каком они там находятся.
Может, все это уже в ребенке есть: и смерть его, и обиды, и таланты делать добро и гадости — всё!
Эх, пишу я эти слова и думаю: кем он станет, мой мальчик? Каким будет? Каким его люди воспримут? Будет ли он, как Николай Трофимович? Или, как Борис, будет ходить и обижаться на людей, говорить с ними странно? Как тогда в парке, наговорил бог весть чего, не закончил и ушел, весь загадочный. Или сделается истериком, как Тер-никовский?
Кстати, Терниковский опять оскандалился. Бойкотировал со своими монархистами Милюкова, и теперь его выслали на острова. Наконец-то! Инцидент был очень неприличный. Милюков приехал с лекцией "Грозит ли война Европе?”, но за неделю до приезда по городам уже распространилась мерзкая листовка, по всей видимости, написанная самим Т., в которой он призывал дать отпор предателю Милюкову, саму лекцию Т. назвал "зловредной”. Милюков приехал, ни сном ни духом, я видел его: он улыбался и был очень оптимистично настроен. Не успел он подняться на сцену театра "Эстония”, где присутствовало более ста человек, в том числе чины и государственные деятели, как выскочил какой-то однорукий в сером офицерском костюме северо-западник из бывших “верных”, и давай выкрикивать ругательства в адрес Милюкова. Инвалида немедленно арестовали. Он был не в себе, хохотал и размахивал одной рукой, и та взлетала как-то неестественно, будто неживая. Затем расследование, суд, все наскоро, выслали пятерых, включая Терниковского. Тут же в “Возрождении” появилось анонимное письмо — по насмешливой, залих-ватски-хулиганской манере легко догадаться, кто написал его…»
Фрау Метцер была со мной необыкновенно вежлива (я ей вперед заплатил). Улыбалась. Несла в руке букет снежноягодника. Толстые белые ягоды. Шла и любовалась. Никогда не понимал ее страсти к этим цветам. Что в них? Я спускался за почтой.
— Вам там письмо пришло, лежит на столе в кухне, — сказала она, умиляясь букету, и пошла дальше по лестнице. — Наверное, от барышни, — добавила насмешливо.