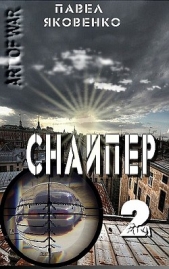Харбинские мотыльки
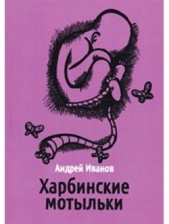
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Напишу.
— Ну, вот и ладно! — сказал Алексей и, застегнув последнюю пуговицу, посерьезнев сразу, обнял Бориса, перекрестился и сказал: — Теперь на Валаам!
Поначалу Тимофей писал кунстнику часто; все письма были восторг; Тарту — сказочный городок, Вера Аркадьевна — ангел, Ольга — ангел! Стихи, стихи. В конце апреля случился потоп: было весело, люди на лодках по улицам плавали, по досочкам ходили! Журчание реки, стихи. Факельный вечер студентов; ночные прогулки и пение; студенты, гофманские персонажи; катание на пони; колокольный звон; у соседа ручной ворон, Тимофей его учит слову «nevermore»; ездили в Пюх-тицу; День Русской Культуры; стихи, стихи; ездили в Тойла, снова стихи. Слава богу, он писал реже и реже, и письма его становились короче; летом он перестал писать совсем. Кунстник вздохнул с облегчением.
Я полагал, что заикаюсь и спотыкаюсь на каждом шагу оттого, что все эти годы меня держало костлявой рукой прошлое, но все гораздо сложнее. Здесь чаще идут дожди, и эти дожди несравнимо более меланхолические, нежели наши. Там они шли для всех, а тут как будто только для меня. Играют опьяненные опиумом пианисты, каждый свою грусть мне вбивает клавишами в душу, только мне! Но, может, потому там они были «для всех», что остро проникаться ощущением дождя я научился в гимназии? Прошлое, конечно, тут, а не там, только теперь не тяготит, держит оно меня ради уготовленного будущего, возможность которого созревает по мере преодолевания силы тяготения. Превозмогая в себе прошлое, оставляешь его за звонко захлопнутой дверью, — «освобождаясь умом», становишься другим человеком.
возвращаюсь к этой записи через месяц: Я долго не мог понять, почему я не чувствую — все-таки надо сказать: не проникаюсь до конца чужбиной, а как воздушный шар, заякоренный временным видом на жительство (в ожидании гражданства — сколько лет еще ждать? et alors? [48] что изменится?), болтаюсь тут, как Петрушка. Так вот, однажды, после нескольких бессонных ночей (сильно болела голова), я пересматривал этими ночами работы отца, перечитывал «Двойник», заглянул в «Портрет», всплывали воспоминания, — отделил всё дорогое, отрешенно увидел себя как незнакомца и понял: Петербург был и остается городом, который фотографировал отец, который описали Достоевский, Гоголь, Пушкин, Блок, Белый, этот город населен персонажами, которые срослись с моей душой (они и есть я, или — там мое море, из которого происхожу, как рептилия), Петербург описан красками, слоями слов, а Ревель нет (призрак Петра, Екатериненталь, Морская крепость, Бестужев-Марлинский — вчерашние знакомства, а не друзья с детства), Ревель для меня пока не описан, и потому это город-призрак. Я тут как проездом.
нужна другая память; нужно иначе укладывать воспоминания — нужно собирать впечатления художественно, фиксировать не то, что лежит на поверхности: то, что можно увидеть, потрогать, понюхать, услышать и пр., - не только сгустки мысли, а так, чтобы оно было как картина, в которой целиком жизнь, все ветви и все тени, все шепотки и всё неповторимое, потому что chaque instant la vie est un Dada-collage [49], который незаметно распадается до состояния tabula rasa, а затем невидимой волей собирается вновь: машины, дома, деревья, дождь, дамочка с тортом, грязноносый мопс на руках сонного господина в котелке, кельнер, столики, вынесенная на улицу мебель, гофрированные крыши, подмоченные ярким солнцем деревья, труба с трубочистом, голуби, лужа, облака et cetera, et cetera — все это содержит в себе загадку для каждого участника и меня, и мсье Л., и herr Т., который сделал этот снимок. Но почему хранителем этой коллекции стал я? В этом, несомненно, что-то есть.
Алексей пишет, чтоб я подыскал для него что-нибудь. Митрополит отказал, Православный Богословский институт в Париже отклонил мое ходатайство. Кто-то что-то кому-то написал, несомненно. Идея семинарии тоже под вопросом. Впрочем, как и мои унионистские идеи. Наше дело под ударом. Все непонятно, но ясно, что все у него срывается. На последние письмо мне послал. Работенку, угол у немки, говорили, недорого. Прикрепил коротенькую статейку, накропал на досуге, больше похоже на наблюдения жизни в Париже и Берлине, просил отнести куда-нибудь, авось что дадут… Смешные надежды! Кто только не писал такого о Берлине и Париже?! Как нелепо! Быстро же его путешествие в Ватикан завершилось! И чем? Угол у фрау Метцер ему за счастье видится!
свет стал совсем… У Терниковского в кабинете стоял широченный шкап из черного дерева, и от него исходила гулкая тишина. Мы сидели с ним в тесноте, как в купе, и молчали долго, и мне казалось, что кто-нибудь сейчас еще войдет (может, даже из этого шкапа!), но было тихо-тихо, только часы скребли, настругивая время, но и этот скребет уползал в шкап, точно он все звуки поглощал. Так вот, в эти ветреные дни ничего ни в себе, ни вокруг не обнаруживаю, будто где-то над миром распахнули громадный шкап, как у Т., который пожирает все живое, высасывает из предметов и людей сущностное.
По вечерам — все как обычно: горячий чай, вино, табак, — но даже это пустое. Шуршу бумажками. Курю — пустой дым пускаю. Ничего не чувствую. От вина не хмелею. Даже голод не томит, могу не есть трое суток — и хоть бы что!
Свет стал совсем предательский, размывает все. Хожу наугад, говорю на авось — поймут, нет, как-нибудь… да и все равно! Слышу — идут навстречу, не вижу кто, сторонюсь, стою, жду, руками стену ощупываю, пройдут — иду дальше. Иногда здороваются, а кто, не знаю. Такие вечера. Как только вечер, свет упал, все отрезало, погасло. Зажгу свечу — вижу, погасло — мир канул ведром в колодец.
Меня это обстоятельство укрепляет — меньше выхожу, меньше говорю и думать стал меньше. Лишних встреч стало совсем мало. И не надо. Только отчаяние наслаивается на душу от разговоров. Все жалуются. Ржавеет внутри.
Ворох листвы в каждом дворе. Дни быстро угасают. Опять зашел к Трюде, посидели, посумерничали. Опять не понимаю ее, а она — меня. Отец ее уже не встает, и тем более совестно мне там появляться. Хожу парками. Кучи листвы горят каждый день. В одной куче варежка дворника горела, видел его в кустах: ходит-бродит, шевеля голыми пальцами, варежку ищет и бормочет что-то, пьяненький.
Сегодня сухой, похрустывающий воздух. Гулял возле тюрьмы. Море едва ворочалось. Оно было во сне. Я сидел на камне и думал о чем-то… в голове играл оркестр, вылезали на сцену актеры, то один, то другой, опровергали друг друга, я слушал. И вдруг — тишина, и я совершенно отчетливо понимаю: не о том думаю!
Так отчетливо было это понимание, что еще долго сидел как связанный, боясь шелохнуться.
Был в Юрьеве. Привез целую коробку книг и деревянных болванов, что изготовил для меня Иван. Крашу. Сам он забегался и стал, как моль, буркнул, что «Лотос» больше не существует, таким тоном, словно кто-то умер. Сильно волнуясь, Иван сказал, что теперь вместо «Лотоса» будет какое-то братство. Может быть, он так волновался из-за девушки, с которой меня познакомил Тимофей. Варенька. Кажется, она сильно нравится Ивану. Впрочем, ерунда. Конопатая хохотушка-трещотка. От нее в ушах два дня после звенело. Недавно из Парижа приехала. Вместе с Верой Аркадьевной и Ольгой они все ходят в РСХД. Тимофей дал новые стихи почитать. Странные. Ils me semblent Baudelaire ou bien «Illuminations» de Rimbaud. [50] Хотя он не знает французского, читает англичан: Суинберна и какого-то Элиота. (Давно ничего не читал.)
У них там живет странный человек, о котором вскользь говорил Алексей, послушник, вернувшийся в мир: выглядит он жутко. Тимофей сказал, что он воет по ночам и стенает.