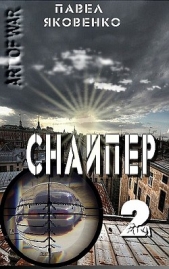Харбинские мотыльки
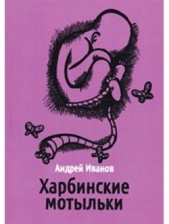
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Через неделю он поехал в Тарту. Произвел сильное впечатление на местную публику. Приезда ждали с нетерпением. Прочитали статью Ристимяги (там читали по-эстонски); кроме того оказалось, что, пока он пил в башне на Лаборатоориуми, в «Последних известиях» вышла о нем заметка, крохотная, и все же… Для него это был сюрприз, но он скрыл изумление. Неровен час, подумают, деланно удивляюсь — кто поверит, что газет не читаю? У Веры Аркадьевны собралось человек десять… и новые шли и шли… Это был настоящий фурор! Накануне отъезда в Тарту, Федоров сообщил Борису, что помещает в своем журнале его миниатюры, которые не решался опубликовать прежде, и фотографии, добавил, что с нетерпением будет ждать новый материал. Борис и это всем рассказал. Все всплеснули руками: будем с нетерпением ждать!
Ребров пробыл в Тарту три дня. Народ шел. Несли свои стихи, рисунки, фотоальбомы, точно хотели, чтоб он благословил. От стихов сразу началась головная боль; от акварелей заслезились глаза; фотоальбомы вызвали натуральную рабочую усталость и раздражение: они были набиты любительскими расплывшимися снимками («а это я» — перстом тычет в сизое пятнышко), из сорока один стоящий: человек с велосипедом в лесу возле пня, — хозяин альбома признается, что не знает, кто это такой, откуда взялась фотокарточка, но даже не сам человек удался, а блестящий велосипед и орешник с белками (как всегда, что-нибудь безымянное). Было много миниатюрных фотографий, величиной с марку (всюду экономят), — Ребров ненавидел такие заказы, он их делал сжав зубы (самое неприятное, что потом они просят их увеличить). Передавали из рук в руки — смотреть хотели все. Он путался. Фотографии мелькали. Редко встречались фотокарточки иностранного происхождения, они были ярче: более желтоватые — Берлин, более металлические — Париж, в рижских ателье портреты делали с избытком света, в котором растворялось всякое выражение, отчего в глазах появлялся испуг (Ребров ухмыльнулся: латыш, который недолго работал у Тидельманна, проделывал с клиентами тот же трюк — ослеплял лампами, а потом снимал, при этом он всегда улыбался, за глаза его звали Folterknecht [59]). Альбомы несли в ужасном количестве; гимназистка попросила экспромтом написать ей в альбомчик стишок; девушки за чаем тихонько пели; сестра Веры Аркадьевны связала шарфик — ему. Мелькнуло что-то знакомое. Ну-ка, ну-ка… Световой овал, наклон головы, дубовая ручка кресла, так и есть — в левом углу родной блинт Tidel. На второй день пришли два местных поэта и три писателя, которые давно печатались, и все их знали, только Ребров не знал. Писатели были много старше Реброва, им было порядочно за сорок, они выглядели весьма внушительно: седые бороды, густые шапки волос, суровые черты. Один приехал аж из Обозерья, про другого говорили, что он не вылезает со своего хутора никогда, а тут — такое событие… он был чуть ли не в прадедовском камзоле! Поэты на их фоне выглядели слегка инфантильными; Борису показалось, что они даже говорили стихами. Писатели величественно сидели, пили чай и на Реброва посматривали. Поэты все время вскакивали, ходили, щебетали с девушками. Борис смущался. Озирался. У него кружилась голова. Писатели говорили узловато, Реброву в каждой фразе чудились скрытые смыслы. Вокруг него разбрасывали сети из имен, названий разных обществ и кружков: Кайгородов, Обольянинова-Криммер, «Черная роза», «Среда»…
— Да, знаю, — отвечал осторожно кунстник, — посещал. Но ведь это все Куинджи. Это не мое.
— А советские художники вам нравятся?
— Филонов.
— А с кем из ревельских художников вы знакомы лично?
— Мсье Леонард, парижский дагеротипист, сейчас проживает в Ревеле. Арво Пылва, покойный.
— А бывали на выставках Ars’a?
— Бывал, но… выставка Добужинского произвела самое сильное впечатление, да, пожалуй, что самое сильное…
— А как вам картины Андрея Егорова?
— Очень нравятся. Кстати, Арво Пылва и Егоров дружили, рядом продавали картины на рынке, я часто их видел вместе.
— Вот как! Расскажите!
И он рассказывал, хотя не был уверен, что человек, которого видел со стариком на рынке, был тот самый глухонемой художник, которого ему показали несколько позже… Но какая разница?
Они расспрашивали о ревельских журналах и личностях, Ребров робко произнес несколько слов о Стропилине. Они пили чай и сопели; художнику стало неловко, он поторопился уйти, сказав, что, собственно, приехал не за тем… а навестить Тимофея и Ивана Каблукова, с которым приключилось несчастье: выбило глаз. Быстро собрались, поехали с Тимофеем в больницу.
Странности, о которых писала Вера Аркадьевна, проявили себя не сразу; всю дорогу Тимофей читал ему свои стихи, художник почти не слушал — он перебирал в уме сказанное, и все представлялись ему эти писатели с поэтами, как они сидят и на него смотрят, он думал о том, какое произвел на них впечатление, пытался увидеть себя их глазами, переживал, стихи Тимофея пролетали мимо, он рассеянно улыбался ему, выловил пару строк и повторил их, заметив — а вот это особенно хорошо — и довольно с него, он много болтает… Да, Тимофей стосковался по художнику, он его ждал, а когда тот приехал, сильно ревновал ко всем: Тимофею казалось, что художник его не замечает, со всеми говорит, а ему так, полслова, и все, поэтому теперь, в цвайшпеннере [60], рассказывал все, что уже описал в письмах, и сверху того говорил, что был в Риге и Вильнюсе от гимназии, но теперь, когда такое случилось, гимназию надо бросать. Это поразило Бориса, он заметил, что сказав это, Тимофей посерьезнел, напрягся, как перед прыжком или дракой.
— Как это бросать? — спросил Ребров и подумал: а какое мне дело? Я ему кто? Отец, брат, дядька?
— Подъезжаем, — сказал Тимофей. — Вот и больница. — Посмотрел на Реброва чужим взглядом и добавил: — Если бы я не повел Ивана на площадь, был бы у него глаз теперь.
Ребров с ужасом понял, что тот даже в голосе изменился, заговорил, как Иван Каблуков, с той же интонацией, так же злобно выдавливал из себя слова, будто ненавидя их. Только что он был собой, читал стихи, рассказывал школьные анекдоты и вдруг — за несколько секунд — стал совершенно другим, каблуковским волчонком!
— Я виноват в том, что с ним произошло, и должен эту вину искупить!
Тимофей достал из кармана черную повязку, нацепил ее на глаз и так пошел на встречу с Иваном.
На следующий день в книжном Борис случайно встретил Милу За-секину:
— Вера Аркадьевна мне звонила, но я не смогла прийти. Очень жаль! Как рада, что я вас встретила! У мужа гости, они выпивают, курят, обсуждают дела… к нам пригласить, увы, не могу! Но это хорошо: дела — это хорошо. Поначалу совсем не знали, как жить. В Коппеле в таком доме жили, просто ужас, все там болели, туберкулез ходил, сифилис, я в бухгалтерии, потом машинисткой, у нас дочь была, слышали, наверное…
Ребров притворно погрустнел, пробормотал соболезнования. Сказал, что знает, бывал у Гончаровой. Мила говорила быстро и как-то неряшливо, некоторые слова не договаривала и все время улыбалась, снова и снова бросала на него взгляды.
Ей, наверное, за тридцать пять уже, думал Ребров, твердо встречая эти взгляды. Она смеялась, рассказывала смешные случаи «из нашей убогой провинциальной жизни».
Развращена до крайности и даже пошловата… Что становится с женщинами в провинции… В данном случае это хорошо…
Как крепко сидит грудь! Талия и губы…
Зашли в кафе.
— Я Вере Аркадьевне еще тогда сказала, что знаю вас по Ревелю, что вы — такой талантливый художник, такой интересный мужчина! Наконец-то все оценили! — Ребров притворно засмущался, но сам жадно глотал ее вздор, присматриваясь к морщинам у глаз: Не красится… тридцать пять или сорок, какая разница… даже если сорок… такой рот, такие глаза… О! Вот это-то и взводит! Сорок! В ее тело впечаталась похоть… С нею можно многое, чего ни с Трюде, ни с другими не станешь даже пробовать… Все мужчины, что прошли через нее, оставили в ней отпечаток своей похоти… Они вылепили из нее настоящую сучку…