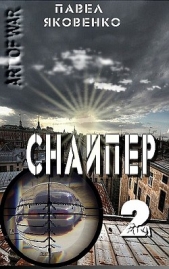Харбинские мотыльки
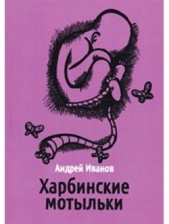
Харбинские мотыльки читать книгу онлайн
Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Трюде — моя стыдная бессмысленная связь (это тоже что-то вывернутое). Вся моя жизнь, как кривая нога Ипполита из Madame Bovary, высохшая, как то дерево в парке: большей частью сухое, треснуло, но живет, так и я. Мою ногу уже не выправить; ампутировать разве что. Нормальная жизнь — это когда со смыслом все делаешь, когда поступки целесообразны. А у меня — все шиворот-навыворот. Жизнь Трюде, против моей, полна смысла — какая бы бесперспективная, серенькая она ни была, в ней есть смысл хотя бы потому, что она нужна отцу, за которым ухаживает (но умрет старик, и после она придумает себе смысл, найдет его в какой-нибудь ничтожной дряни и все у нее будет richtig [47]).
В библиотеку так и не решился войти; прошел мимо, дошел до Моста, увидел фигуру Чацкого. Повернул обратно.
За две недели в январе Ребров с Алексеем успели трижды написать друг другу. Первым осторожно написал Алексей, прислал большой конверт, сообщил радостную весть: Борис Ребров принят в кружок «Лотос», считается полноправным членом и будет получать бюллетень; председатель попросил прислать что-нибудь для их листка: лучше прозу; поэзию не печатаем совсем; у нас это не пройдет. В качестве примера вложил последний номер, в котором было несколько небольших писулек самого Алексея: смерть матери… разговор с дедушкой о Боге… бурный разлив Оки… Фон Штейн, д Аннунцио и Муссолини… Муссолини у него борец за христианство и монархию, воспет как Прометей!
Борис просмотрел листок, трижды перечитал послание. Придирчиво изучил манифест. Дурацкий, подумал кунстник. Там же была приторочена речь Терниковского. Кунстник расстроился. Все не то. Ответил коротко. Вложил миниатюры и фотокарточку со статуей Петра (после переноса в Екатериненталь, с основательно натертым носом). Алексей отозвался с восторгом, но, видимо, не понял, о чем писал Ребров; как бы между делом спросил о религии и политике. Борис коротко написал, что ни тем, ни другим не интересуется. Алексей незамедлительно сообщил, что собирается приехать в Ревель, проездом на Валаам, остановится у Стропилина, хочет непременно повидаться с Борисом, побеседовать с глазу на глаз (предлагаю назвать цикл миниатюр «Из-енгоф»), написал о смерти отца, о том, как ему трудно было перенести эту страшную новость, и если бы не печерские монахи, а особенно иеромонах Иоанн и послушник Григорий, который теперь у нас живет, мы его поддерживаем… И ни слова больше. Алексей обрывал мысль. Наверное, торопился, подумал кунстник, или чернил-бумаги жалел. Небрежный, но — чистюля.
Приехал в снегопад. И был он каким-то другим. Переписка изменила его, подумал Ребров. Председатель весело топтался, посмеивался, но мешкал входить. Снег с плеч стряхивал, пританцовывая; одежда на нем была новая.
— Я по пути на Валаам, — сказал он. — Не мог не заглянуть к вам. Как знать, увидимся ли. Вот вам наш последний листок. Тут и миниатюры ваши. Сразу двадцать экземпляров даю. Раздайте среди своих, будьте добры.
— Обязательно.
Борис вел его по коридору к себе и смущался. Алексей озирался, смотрел на стены, двери, потолок и всему удивлялся.
— Вот значит где вы живете, — говорил он, — вот значит как вы живете…
Реброву показалось это странным.
— У меня все решилось: уезжаю в Германию! А там как получится, ответа на мое ходатайство я пока не получил. Решил заехать на Валаам… Это важно…
Борис приготовил чай.
— Я бы тоже уехал, — сказал он, — только что-то меня тут держит.
Алексей бросил на него пронзительный взгляд и принялся дуть на чай, сделал маленький глоток:
— Прежде всего, дорогой друг, мне жаль покидать Юрьев потому, что такой у нас сплоченный кружок, такое у нас завязалось общение, работа наладилась такая, что даже обидно, скажу я вам, бросать все. Но я не оставляю наш «Лотос». Ни в коем случае! Уезжаю, да, конечно, но это ничего не значит, буду продолжать работать в отдалении. Как знать, что выйдет. Пока можно с уверенностью сказать, что наш кружок обрел единодушие и направление. Вот как получается, приходится на этом разлететься. У нас вот братья Слепцовы тоже уезжают в Париж, на заводы… Как знать, что там их ждет. Трудная жизнь, это определенно. В любом случае, я уже получил несколько адресочков монархистов и в Берлине, и в Париже. Может, все идет к лучшему. Может, и провидение, а? Как бы то ни было, если б не понимание того, что покидаю Юрьев во имя дел куда более значительных, нежели литературное наше общество, я б ни за что, клянусь вам, не уехал. — Отставил кружку, расплылся в прежней, устрашающе безжизненной улыбке. — Шел сейчас по Ревелю, и две вещи вспомнил. Во-первых, как мы втроем с отцом в Ревель приезжали. Тоже зимой было дело. Незадолго до его кончины. — Сделал паузу, посмотрел в сторону окна.
— Во-вторых, как-то вдвоем с бабушкой мы в лютый мороз в Александра-Невскую лавру ходили… Об этом я напишу, обязательно напишу! А вы, значит, в церковь не ходите…
— Нет, не хожу. Помните, на похоронах матери Тимофея, были монахи? Вы их знали?
— Нет, — сказал Алексей, — я не был на похоронах его матери.
— Ах да, правда, извините.
— Ничего. А скажите, вы в церковь по убеждению не ходите или просто так получилось?
— Не хожу и все. Ноги не идут.
— Вот. Большевикам помогаете.
— Что? Если в церковь не хожу, так сразу большевикам помогаю?
— Напрасно вы усмехаетесь. Очень может быть, что не сами, так других подталкиваете.
— Каким образом?
— Другие, кто помоложе, вот как Тимофей, посмотрят, тоже не будут, потому как для него вы образец, герой, которым он восхищается, возьмет да в церковь не станет ходить, вам подражать будет, философию читать, ан прочтет Маркса, увлечется, да и на сторону большевиков переметнется, вот вы душу-то и сгубили да большевикам помогли. Да и не большевикам, так врагу.
— Какому врагу?
— Сами знаете, враг один, — ровно сказал Алексей, хитро улыбаясь. — К каждому свой приставлен. Сидите, пьете, картинки рисуете да врагу службу служите.
— О чем вы говорите? Какую службу?
— Знаете, знаете, — кивал Каблуков. — Каждый знает, только сам от себя врага прячет, думает, он его лучший советчик. У каждого первый учитель — враг. Все в нашем мире от него. Не наше это. К нам пришло. Понять это наша задача.
— Не понимаю я ваших богословских задачек.
— Значит, не время. Просто поймите, человек — светильник Божий. Светить, чтобы спастись, а для этого врага со всеми его уловками отринуть надо, все, на чем мир стоит и чем нас в сетях держит. Я вот сейчас в монастыре не живу и в церковь не хожу. Хочу узнать, можно ли оставить молитву, когда добился безмолвия. Можно ли не бояться жить без молитвы…? Об этом хочу спросить. Хочу отважиться. Это не дерзость, а дерзание. Потому как с молитвой ты защищен, как со щитом, а можно ли попробовать проверить себя и чистоту души и жить без молитвы…? Может, вам и не нужны ни церковь, ни Библия, не знаю. Может, вы с Богом. Откуда мне знать? Не берусь вас судить. Только от одного предостерег бы вас, по-дружески, на каждом шагу говорить о том, что не веруете, лучше не надо. Ведь вы веруете, во что-то свое веруете. Только некоторые не поймут. Я пойму, я понимаю, это гордыня, упрямство у вас такое и еще что-то, но вы веруете, по-своему, другим этого не понять, потому о таком лучше молчать-помалкивать, а вы бравируете… в соблазн других вводите… Мне вот тоже один иеросхимонах печерский советовал стяжать мир в душе, безмолвие внутреннее, и тогда тысячи, говорит, вокруг тебя спасутся. Сей, говорит, доброе слово куда попало, и в каменья, и в добрую землю, достигай тишины духа! Молитвой Иисусовой подвяжись! Я два года послушником был, а он мне сказал, что мое место в миру, как Алеше Карамазову старец сказал… «Предстоят тебе трудности, потому как дело непростое. Едешь ты к католикам, — сказал он, — зачинаешь дело многим непонятное, может показаться другим, что в этом выгоду личную ищешь, пристроиться желаешь. Только ошибаются все они. Я тебя хорошо узнал. Ты простой, бесхитростный, а потому легко тебя обмануть, могут и обидеть словом дурным, клеветой запачкать, а начнешь обижаться да себя жалеть, так и пропадешь. В жалости слабость и болезнь. Помни, что никуда ты не едешь, ни во Францию, ни в Германию, ибо ничего нового для тебя там нет, а всюду Бог, Он тебя в себе катает! Но прежде чем ты поймешь истину, пострадать придется. Молитвой Иисусовой спасешься! Пути сами откроются. Такое откроется, о чем не помышляешь!» Так сказал. Главное, светильник свой наготове держать, чтоб масло в нем не пересыхало. Ну, ладно, надо мне ехать! — Алексей встал и начал одеваться. — С одной стороны, рад, что этот разговор промеж нас состоялся, с другой — боюсь, будете ли меня теперь вашим другом считать…? Не хотелось бы терять вас из виду, вы мне очень дороги сразу стали, и сошлись зараз мы как-то, сами видите — накоротке уже! Пишете вы тонко… Хотелось бы письмо хотя бы раз в год получить. Напишете?