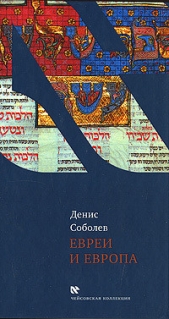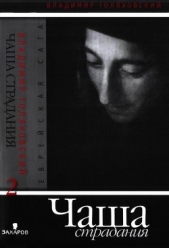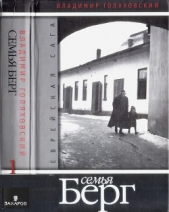Крушение надежд

Крушение надежд читать книгу онлайн
«Крушение надежд» — третья книга «Еврейской саги», в которой читатель снова встретится с полюбившимися ему героями — семьями Берг и Гинзбургов. Время действия — 1956–1975 годы. После XX съезда наступает хрущевская оттепель, но она не оправдывает надежд, и в стране зарождается движение диссидентов. Евреи принимают в нем активное участие, однако многие предпочитают уехать навсегда…
Текст издается в авторской редакции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рупику в кабинет позвонила секретарь ректора Ковырыгиной:
— Ректор просит вас срочно явиться к ней.
— Зачем, что случилось?
— Будет внеочередное партийное собрание, она хочет видеть вас перед этим.
— Но я не член партии.
— Собрание открытое, и ректор обязывает вас быть на нем.
Рупик терпеть не мог ректора, типичную советскую бюрократку, и был зол, что его отрывают от дела. Но что делать? Если велела, надо идти. К его удивлению, в кабинете Ковырыгиной собрались одни евреи, профессора Курляндский, Шехтер, Кан и Мошкелейсон. Все слушали, она с возмущением говорила:
— В нашем институте произошло чрезвычайное происшествие. Научный сотрудник кафедры глазных болезней Исаак Лахман, потеряв всякий стыд, подал заявление об увольнении в связи с отъездом в Израиль. Уволить мы его, конечно, уволим, но сначала выведем на чистую воду, покажем всему коллективу его подлое лицо. Вы знаете, как к этому относится правительство, оно требует от отъезжающих возвратить расходы, потраченные государством на их обучение. Наша страна не обязана образовывать людей для других стран. Россия дала ему образование и возможность хорошей работы, а он платит ей черной неблагодарностью. Вы должны выступить на собрании с осуждением его поступка. Я жду от вас суровой критики этого сиониста и предателя, он опозорил весь наш коллектив. Надеюсь, вы будете выступать как можно резче.
Рупик слушал с напряжением и испугом, и думал: «Ой-ой, еврея натравливают на еврея». То же самое чувствовали остальные, но все молчали. Никто из них Лахмана не знал и до сих пор о нем не слышал, но Ковырыгина поставила их в такое положение, что отказаться они не смели: не выступишь — тебя самого станут «разбирать» на собрании как сиониста и выгонят с работы.
Курляндский и Шехтер были старые профессора, пережившие сталинизм, они хорошо помнили «дело врачей-отравителей», когда всех евреев заставляли выступать против известных профессоров [167]. Это им было не внове. Но Рупик был совершенно растерян, его бросало в холодный пот, неужели ему придется выйти на трибуну и порочить незнакомого еврея только за то, что тот «осмелился» захотеть уехать в Израиль? Что говорить, как говорить? Надо суметь как-то вывернуться, чтобы получилось вроде и осуждение, но и не совсем осуждение. Как?
До чего же противно было ему идти в аудиторию! Тяжелая тоска сжимала грудь, и ноги шли тяжело. Войдя, Рупик заметил, что собралось не меньше двухсот человек, но знакомых евреев не было видно. Значит, пришли только те, кого вызвала ректорша, другие постарались избежать собрания. Самого Нахмана тоже не было, он просто не явился, не хотел быть объектом прямых обвинений. И его начальник, заведующий кафедрой профессор глазник Святослав Федоров, тоже не пришел. Впрочем, он не посмел бы не прийти, но его тесть работал в ЦК партии, и Федоров пользовался особым положением зятя большого босса. Аудитория состояла из русских — профессоров, доцентов и ассистентов, много было женщин, все они шумели, возмущенно переговаривались.
Секретарь партийного комитета Троянский открыл собрание:
— На повестке дня обсуждение недостойного поступка некоего Исаака Лахмана. Этот отщепенец подал заявление на отъезд в Израиль, в сионистскую страну, в страну-агрессор, которая мешает нормальной жизни дружественных нам арабских стран. И он еще посмел написать в своем заявлении, что хочет выехать на так называемую «историческую Родину». Товарищи, наша Родина дала ему все, а он проявляет к ней черную неблагодарность. Предлагаю выступить нашим товарищам и высказать их мнение по этому поводу.
Он не сказал «товарищам евреям», но большинство голов сразу повернулись в их сторону. Только немногие смущенно опустили глаза и отвернулись. Первым бодро поднялся на трибуну Курляндский, он говорил спокойно и уверенно, натренированно:
— Товарищи, я возмущен поступком Лахмана. Советское государство дало ему возможность получить образование и хорошую работу, а он захотел уехать. — Он продолжал гладко говорить слова осуждения, но ловко избегал слов «еврей» и «Израиль».
В зале раздавались истерические крики женщин:
— Да он просто сионист!
— Он еще посмел называть Израиль «исторической родиной»!
— Он изменник!
— Он предатель!
Из президиума крикнула ректор Ковырыгина:
— Пусть он вернет деньги, которые государство потратило на него!
Да, да, пусть заплатит за все, что ему дали! — поддержали несколько голосов.
Это вызвало бурю аплодисментов. Курляндский закончил:
— Я считаю, что таким, как он, нет места в нашем коллективе и в нашем обществе.
Рупик слушал и, при всем напряжении, все-таки саркастически подумал: «Вот этот Лахман и решил уехать из этого общества, не спросив твоего мнения».
После почти такого же выступления Шехтера вызвали Рупика:
— Слово имеет профессор Лузаник.
У Рупика почти кружилась голова, в ушах шумело, перед глазами была какая-то муть, даже ноги не слушались, но все-таки он поднялся на трибуну. Что говорить, как говорить? Он решил: если эти двое уже все сказали, для чего мне начинать снова клеймить Лахмана? Язык ему повиновался с трудом:
— Товарищи, я присоединяясь к мнению моих коллег. — И остановился, замолчал.
Громкий голос Ковырышной:
— Но вы осуждаете его поступок?
Рупик быстро соображал: ведь все собрание устроено для осуждения, значит…
— Да-да, конечно…
Он чувствовал: почти вся аудитория смотрит на него недоброжелательно. Под этими взглядами он спустился с трибуны и сел на место [168].
По дороге домой Рупик повторял сам себе: «Ой-ой, как стыдно… Ой-ой, как противно!..» Он вспомнил рассказ Ефима Лившица, как после голосования на партийном собрании за осуждение «врачей-отравителей» он сам дал себе пощечину перед зеркалом — некому было ударить его, а он это заслужил, проголосовав «за» со всеми вместе, из страха. Теперь Рупик думал, что тоже заслужил пощечину.
Когда он вошел в квартиру, Соня удивленно и встревожено посмотрела на него:
— Что с тобой? На тебе лица нет.
Он не ответил, прошел в ванную, встал перед зеркалом и влепил себе пощечину.
Соня увидела это и испугалась:
— Рупик, милый, скажи, что случилось? Что с тобой?
Он рассказал ей про собрание, про свое выступление и про случай с Ефимом Лившицем. Соня слушала с широко раскрытыми от ужаса глазами:
— И ты осудил его, этого человека, который хочет уехать в Израиль? Ты осудил?..
— Соня, что же я мог сделать? Если бы тогда кто-нибудь ударил меня за это по лицу, я был бы благодарен. Но никто не ударил, и пришлось влепить пощечину самому себе.
Соня была совершенно обескуражена, она впервые видела мужа таким потерянным. Она привыкла считать его уверенным в себе человеком, гордилась им. А оказывается, он тоже должен терпеть унижения и бояться. Она молча подала ему обед, села рядом, подперла подбородок рукой и сочувственно смотрела на него. Поднеся ложку с супом ко рту, Рупик вдруг сказал:
— Соня, сегодня я испытал такое унижение, как будто меня тоже осуждали. Знаешь, что? Если так будут издеваться над евреями, нам тоже придется уехать.
Соня от неожиданности замерла:
— Как, уехать?.. Неужели ты думаешь?..
Для нее это был удар, их семейная жизнь так хорошо начиналась, у них новая кооперативная квартира, новая мебель, посуда… И вдруг все бросить? А что ждет их там? А что ждет их дочку?
Всю ночь они пролежали, обнявшись, и говорили, говорили, говорили. Соня вздыхала:
— Рупик, зачем ты меня пугаешь? У нас маленькая дочка, и жизнь налаживается. У тебя здесь такое прекрасное положение, хороший заработок… А что нас ждет там, в этом чужом для нас Израиле? Зачем ты меня пугаешь?..
Рано утром он написал письмо в Петрозаводск Ефиму Лившицу:
«Помнишь, как ты рассказывал мне о своей пощечине? Сегодня я тоже влепил пощечину самому себе» — и рассказал о собрании в институте. В конце он добавил: «До вашего края непуганых евреев это, наверное, еще не дошло, но по ситуации в столице видно, что для евреев наступают трудные времена и они начинают бежать из России. Ты не бойся за меня — я не собираюсь этого делать. Все-таки здесь мои корни, а теперь у меня большие планы, и я намерен их осуществить во что бы то ни стало. Буду писать учебник, буду создавать свою школу, буду держаться, сколько смогу».