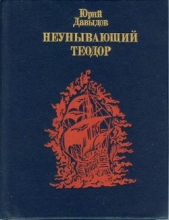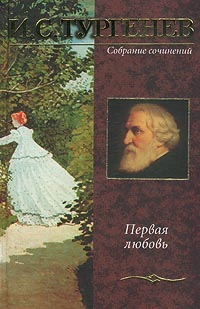Соломенная Сторожка (Две связки писем)

Соломенная Сторожка (Две связки писем) читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Громадные толпы, разламываясь, но не редея, текли по улицам, вожделея пристанищ. На дворе распогодилось. Непогода будто сама от себя отреклась, повинуясь широкому золотому звону всех православных храмов. «Россия – вот где жилище света», – умилился Тихомиров, и опять из глаз его текли сладостные слезы.
У ворот домов стояли посадские. Принаряженные, благостные, объявляли: «Угол в избе три рубли. А можно и в сарае: на соломе – рупь, без подстилки – полтинничек». Толпа отзывалась стоном: «Та-акие мамоны откель взять?» – «Не на базаре, чего торговаться», – ласково отвечали посадские мужики. И вразумляли: «Не лето небось. На земле спать – скрючит. Тряси мошной, православные». – «Жилы! Грабители! – вопияла толпа. – Мы к преподобному, мы эвон откель шли-то…» – «Да вить на нашей улице праздник, – непреклонно отвечали мужики. – Понимать надо: мы этого дня пятьсот лет ждали».
Громадные толпы разламывались и растекались, уже вихрилась матерная брань, заваривались потасовки. Тихомиров потерял и Орлова, и Горского, и Александрова, было страшно, его пихали, ему отдавили ноги…
Потом, в Москве, утешался тютчевским: «аршином общим не измерить».
Годы спустя думал: «Измерена Россия, и взвешена, и получила суд».
Девятый вал революции угас в крови на Пресне. Но покоя, но утешения не было. Близилось, близилось время, Апокалипсисом возвещенное, – время Саранчи. И Тихомиров слышал шорох мириадов насекомых, маленьких, глазастеньких, твердокожих.
Надо покориться? Нет, поборемся!
В то утро, как случалось нередко, он проснулся с сильной мигренью. Тщедушный, всклоченный, надев очки, вздыхая и морщась, преклонил колена. Помолившись утренним обыкновением, то есть одни молитвы сотворя на память, а другие быстрым заглядом в «Молитвослов», Лев Александрович обратился к образу своего покровителя св.Митрофания с просьбой несколько неожиданной. Неожиданной потому, что св.Митрофаний, известно, исцеляет от зубной боли, а тут мигрень… И однако – что же вы думаете? – едва Лев Александрович позавтракал, а если изобразить дело точнее – едва воспринял пищу из рук своей Екатерины Дмитриевны, как мигрень унялась. Тихомиров обрадовался, Екатерина Дмитриевна тоже. Она поцеловала Левочке сперва одну руку, потом другую, а он поцеловал ее пухлый вялый подбородок.
В своем кабинете окнами во двор университетской типографии Тихомиров перво-наперво подлил масла в лампадку перед образом св.Митрофания несколько меньшего размера, чем тот, что висел в спальне, и принялся за утреннюю почту.
Почта была от людей хороших, Тихомирову приятных: от Суворина, Новиковой, Фуделя.
Старик Суворин хотя и с запозданием, но все же прочел его, Тихомирова, «Монархическую государственность» и высказывал тонкие, умные, дельные замечания, каковые следовало непременно использовать в последующих работах.
Ольгу Алексеевну Новикову относил Тихомиров к тем редким людям, которые были из ряду вон и умом и сердцем. Теперь уж ей было далеко за шестьдесят; когда-то она жила в Лондоне, держала салон, печатно и устно воевала с русскими революционерами, русской революцией, русской эмиграцией; к ее мнению прислушивались и на Даунинг-стрит, и в Зимнем дворце. Тихомиров в ту пору жил в Париже, рвал с русскими революционерами, русской революцией, русской эмиграцией. Она первая выказала ему горячее сочувствие и действенную поддержку. Сейчас сообщала, что собирается из Петербурга в Москву, надо повидаться, но только, бога ради, не наскоро, как два года назад. Прекрасно!
Пробежав письмо Фуделя, Лев Александрович несколько удивился практичности «человека замечательного», как называл Фуделя покойный Леонтьев, но тотчас и нашел, что отец Иосиф, в сущности, прав: береженого бог бережет.
Знакомством с Фуделем, с его «Письмами о русской молодежи», Тихомиров был обязан Леонтьеву. Фудель, в прошлом московский студент-юрист, не был русским по крови – отец немец, а мать полька. Но Лев Александрович не раз убеждался, что люди нерусские, перешедшие в православие, порою более православные, нежели русские. И не только более православные, а и более монархисты. Даже и евреи-выкресты… Примером был его начальник и единомышленник – редактор «Московских ведомостей» Грингмут. Велика ли беда, что отцом Владимира Андреевича был датский еврей, а мать – еврейка бобруйская? Куда как прав генерал Трепов: «Грингмут, конечно, не виноват, что он, так сказать, ошибся в выборе своих родителей». И тысячу раз прав покойный Леонтьев: не обруселые поляки, не обруселые евреи, не обруселые немцы, не обруселые татары нужны Русскому царству, а православные поляки, православные евреи, православные немцы, православные татары. И Грингмут еще раз докажет, как справедлив генерал Трепов и как справедлив покойный Леонтьев: со дня на день выйдет в свет его брошюра «Русские и евреи в нашей революции»… А Фудель, отец Иосиф, священствует в Бутырской пересыльной тюрьме, и все признают в нем редкостного пастыря. Жаль, прихворнул, отлеживается в подмосковном Томилине, оттуда и пишет, совет спрашивает: не следует ли в толико смутные времена застраховаться в каком-либо иностранном страховом обществе? И каковы условия страховки? Ах, милый, милый отец Иосиф, эка нашли у кого совет спрашивать! Лев Александрович прыснул. На сей счет ничегошеньки он не знает и ничегошеньки не умеет. Ответит попросту: вспомните, дорогой отец Иосиф, как наш высокочтимый Константин Николаевич Леонтьев: «Нет, еще поборемся!»
Отложив ответы на вечер, Тихомиров углубился в только что оттиснутые гранки, принесенные метранпажем. Запах волглой бумаги, свежей типографской краски и то, что правка чернилами пускала тонюсенькие усики, было, по обыкновению, приятно Тихомирову, как вещественный знак его мыслительной деятельности.
Он бы управился до обеда и еще до обеда начал бы передовицу, если б не посетитель, визит которого предварила третьего дня телеграмма из Петербурга.
Посетитель был круглый, пузатый, но поступью легок и легко внес свое тело в кабинет Льва Александровича. Посетитель был старше лет на пять, но глядел молодцом. Одет был дорого: отлично сшитый костюм, в галстуке – булавка с нефальшивым камнем, да и перстень тоже, знаете ли, не американского золота. Эдаких Тихомиров недолюбливал – преуспевающих, богатеньких, оборотистых. Недолюбливал, иронизировал, а все ж испытывал и некоторую зависть. Однако Станислав Казимирович Глинка-Янчевский был не только издателем, он был свой брат публицист. Именно свой, направления единого с «Московскими ведомостями»: самодержавие и народ русский, веками воспитанный на принципах самодержавия. А то, что в сочинениях Станислава Казимировича он, Тихомиров, не находил особенной стати и незаемной яркости, это уж было второстепенным.
Здороваясь, Глинка приветливо шевелил черными, похожими на запятые, бровями, руку Тихомирова сжав, повел особенным плавным движением, словно приглашая к танцу.
Усевшись в кресло, побежал глазами по книжным полкам; на лице округлом, тщательно выбритом изобразилась та поддельная рассеянность, за которой литераторы прячут самолюбивую опаску не обнаружить свои сочинения. Но нет, обнаружил главное – и «Пагубные заблуждения», и «Во имя идеи», – был доволен, однако и это удовольствие спрятал, молвив со вздохом:
– Вот, Лев Александрыч, пишешь, пишешь, а всё глас вопиющего в пустыне.
Сказано было хотя и со вздохом, но без горечи. Тихомирова это-то и задело. В сущности, Глинка высказал то, о чем он сам постоянно думал. Ему иной раз даже казалось, что все свои силы год за годом изводит он на поддержание власти какого-то египетского фараона Нехао и фараоновой администрации, да вдруг и обнаруживает, что никакого Нехао, никакой администрации вот уж тыщу лет нет как нет. Комизм, думал в такие минуты Тихомиров, ну, может, и высокий, а комизм, и сам ты – веселенький, юмористический тип. Но это он так, в глубине души, и не часто. Боль же и надрыв от непонимания, непризнания ощущались постоянно, то глуше, то острее, но постоянно, хотя и помнился завет покойного Леонтьева: «Вы необходимы для процесса, а понимание придет, когда вас не будет и настанет полное историческое осознание». Да, боль и надрыв были, а у этого Глинки, с его бровями, его запонками и булавкой, – ни надрыва, ни боли. И Тихомиров нехотя ответил «вопиющему в пустыне»: