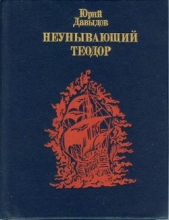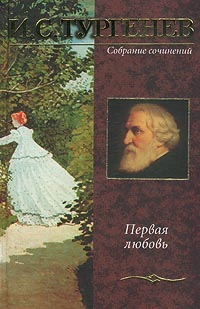Соломенная Сторожка (Две связки писем)

Соломенная Сторожка (Две связки писем) читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Проглянуло солнце, блеснули позлащенные ризы духовенства, оклады, и кресты, и хоругви, все высветилось, повеселело, там и сям составились хоры, мужские и женские, составились без спевки, но пели согласно и стройно, как согласно и стройно было на душе у каждого. И согласным, стройным было это шествие, слитным, как река, в которой капли неотличимы.
А между тем Тихомиров видел людей разных, в обыденности чуждых, друг друга не замечающих, еще нынешним утром будто бы ничем не соединенных. Он видел и лапотных мужиков, и купцов в картузах, и волжских депутатов-богомольцев, снаряженных «от общества»; эти были в нагольных тулупах и крепких осташковских сапогах; видел мастеровых, баб с грудными младенцами на руках, офицеров, старух барышень, студентов и мещан; видел людей здоровых, цветущих и людей бледной немочи, хромых и слепых. И то, что все они в этот сентябрьский холодный день двигались воедино, то, что в шествии этом не было никакой корысти, ничего себялюбивого, а было одно лишь горячее желание поклониться святому человеку, умершему пять веков тому назад, человеку высокого духовного подвига, смиренному и неустанному труженику в глухом тогда Радонежском бору, то, что все они сейчас при пении молитв напевами киевскими, почаевскими и афонскими слитно текли по дороге, пролегающей среди осенних пашен и осенних перелесков, под этим скромным небом с робким солнышком, – все это было Тихомирову праздником: он видел Русь изначальную, над которой не властны ни материальный прогресс, ни пагубные, разрушительные умствования, ни чумные поветрия, налетающие от западных пределов. И всякий раз, когда из ближних сел показывался встречный крестный ход, наплывал, колыхая хоругвями, с какого-нибудь пригорка, увенчанного белеющим храмом, и сразу же пение богомольцев звучало еще трогательнее и еще радостнее, как бы заключая в свои объятия новых братьев и новых сестер, Тихомиров, сжимая руку Орлову, шептал: «Смотрите… Смотрите…» И Орлов, рослый, седой, рябоватый, упоенно отзывался: «Вижу… Вижу…»
Это был тот самый Орлов, о котором Тихомиров говорил в Оптиной пустыни Леонтьеву как о готовом миссионере: обширные знакомства и «отрицательный опыт», спасительный для юношества, вечного рекрута революции.
Сын деревенского батюшки, Орлов был с молодости учителем в селе Иванове. Дружбе его с земляком Сережей Нечаевым не мешала разница возраста: белый свет увидел Орлов на пять лет раньше Сережи. Когда Нечаев пристроился в Питере, в приходской школе, Орлов жил одно время у него, на Шпалерной. О, он любил Сергея Геннадиевича, верил Сергею Геннадиевичу. Так любил и так верил, что, ничтоже сумняшеся, взялся возвестить студентам нечаевский призыв продолжать борьбу. Это ведь Орлову-то и вручил Нечаев записку-призыв, якобы выброшенную из оконца жандармской кареты, якобы увозившей Нечаева в Петропавловскую крепость. Орлов сделал то, что велел Сережа. И отдал ему свой паспорт, чтобы Сережа скрылся из Питера. Он же, Орлов, обретаясь в Москве, успел познакомиться с очень нужным «для восстания в народе» приказчиком книжного магазина Петром Успенским, а потом и Успенского Петра познакомил с Нечаевым. Быстро они стакнулись, и оба потом сгинули, один в Алексеевской равелине, другой в Карийском каторжном остроге. И еще один был в Москве тогда знакомый – студент Всеволод Лопатин. Орлов привел к нему Нечаева. Тут осечка вышла: этот Лопатин Всеволод, младший брат Германа Лопатина, не сошелся с Нечаевым. Как и старший. А его, Орлова, вскоре арестовали, отнесли к первой категории обвиняемых, к той, что включала всех убийц Ивана Иванова. Но счастлив твой бог, Орлов, – на суде объявили: «Вы свободны от содержания под стражей!» Не очень счастлив твой бог, Орлов: в ту же ночь – ночевал он у защитника – опять взяли под стражу. И сослали административным порядком. Брезжил слушок, что вот-де дал Орлов компрометирующие показания на нескольких товарищей. Однако предателем не ославили: «Эх, братцы, ну чего взять с этого большого ребенка? Евангельская простота!» И беззлобно повторяли его присловье: «Лучше погибнуть с народом божьим, а не владычествовать с язычниками».

Он не погиб. Но и не владычествовал.
Долго и мучительно размышлял Орлов над нечаевской историей. Заключил, что и он, Орлов, повинен перед Россией во всей этой бесовщине. Хоть и не был в темном гроте Петровского-Разумовского, а перед несчастным Иваном Ивановым тоже повинен. Несть прощения до скончания земных дней. Сострадая Сережиной участи, думал о бесчеловечности человека, оторвавшегося от бога и богочеловека. Мысленно продолжая жизнь Нечаева на путях всеобщего и страшного разрушения, был убежден Орлов, что еще не однажды, не раз бы еще прибег Сергей Геннадиевич к грубому мошенничеству, к бессовестному обману – такова судьбина каждого, кому власть достается не по наследству.
Теперь уж было Орлову пятьдесят. Отец семерых детей, добывал он хлеб насущный в поте случайных заработков. И озабочен был не мирской властью, а той, что не от мира сего. В Оптиной пустыни Тихомиров говорил Леонтьеву, что Орлов не пристал ни к толстовству, ни к философии Соловьева, нет, исповедует истинное православие. Но Тихомиров не сказал Леонтьеву, что добрый Орлов нипочем бы, ни за что и никогда не согласился бы с леонтьевским: «Любовь к человечеству есть ложь». И это она, негасимая и неутолимая любовь к простолюдину, к мужику, метала сейчас Владимира Федоровича из конца в конец огромного крестного хода, и он надолго оставлял Тихомирова вдвоем с Александровым.
Тучный Александров, часто отирая платком пухлые дряблые щеки, толстую шею и кудластую голову, ковылял, как камнем подбитый, – он был хромой.
Нынче утром, встретив у Спасских ворот редактора «Русского обозрения», Тихомиров удивился. Не тому, что бывший приват-доцент и бывший учитель младшего сына графа Толстого приковылял на молебен в Успенском соборе, а его решимости на пешее паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Удивившись, обрадовался, хотя особой близости между ними не возникало. Сотрудничая в его журнале, Тихомиров соглашался с мнением недругов: ежемесячник водянистый и пресный, словно бутылочный огурец. Зато направление твердое: монархическое, православное. А соучастие такого публициста, как Розанов, льстило. К тому же не пренебрегал Тихомиров и связями Александрова с обер-прокурором святейшего синода Победоносцевым. Главное, однако, было то, что Александров высоко чтил Леонтьева, для писем его, нескольких рукописей и книг отвел отдельный шкапик мореного дуба, читать давал не каждому; Тихомирову – охотно.
Об одиноком духовном служении Леонтьева, последних днях его и похоронах в Сергиевом посаде они сейчас и говорили, двигаясь в широкой реке крестного хода. Все бы хорошо, совсем хорошо, если б неуклюжий, хромоногий толстяк не задел Тихомирова своей неуместной пошлостью. Александров стал говорить о желании купить дом и землю близ Троице-Сергиевой лавры, чтоб уточки и курочки, да и предаться там со своей Авдотьей Тарасовной житью на лоне природы. В сущности, ничего худого в его намерении не было, но одно упоминание о супруге – громадный кус сырого мяса, поросячьи глазки и увесистые кулаки – тотчас придало всему пошлость, совершенно несовместную с минутой.
Тихомиров насупился. Но тут, слава богу, вот он, Орлов – седые волосы, беззубый, – а, право, юноша, так и бурлит впечатлениями. Полверсты шел он с приютскими девчушками. Такие умницы, все понимают, душа радуется. А воспитательница, прости господи, тощая ханжа в синих очках, жаль девчонок… Приотстав, он увидел княжну Марью Михайловну! Ну конечно, конечно, Марья Михайловна Дондукова-Корсакова! Из Питера приехала, милая. Никогда не видели? Срам, господа, это ж просто безнравственно! Сильная индивидуальность, красочная. Башмачки стоптанные, топ-топ, прелесть, прелесть. Из бо-ольших ведь аристократок, с первого взгляда определишь: черты крупные, властные, высокая. А глаза-то! Ну, княжна Марья – «Война и мир»… А странник Антоний? Слышать-то о нем слышал, а не встречал. Сибиряк, из купцов, стотысячник был, семейство было – нет, все кинул, обет дал, странствует лет тридцать. Все к нему, руку ловят, лобызают. Спрашиваю не без лукавства у мужиков и баб: да чем же он занимателен, странник-то Антоний? Наперебой: а тем, что всю твою жизнь наскрозь, как по книге, любого проницает и совет подает; ему, вишь, одних пожертвований за год понанесут пропасть, а он, вишь, вес до копейки на храмы да приюты; чудодейственный странничек, юродивенький… Идет босиком, на спине и груди вериги двухпудовые, ряса ветхая, коленкоровая, ветер кудри вьет, библейский старец. Зачинает акафисты петь преподобному Сергию, голос негромкий, но внушительный, все подпевают.