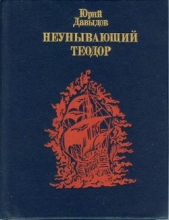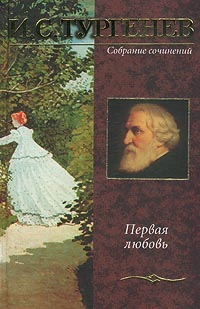Соломенная Сторожка (Две связки писем)

Соломенная Сторожка (Две связки писем) читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Вот, – улыбнулся, – попрекают меня босоножием: для того, мол, чтоб внимание было. Не прекословлю, без нужды разубеждать. Пусть. Может, и вправду обличье мое у тех-то, образованных, усмешку вызывает, недоверие. Пусть. Мне-то что? Я счастье знаю. Именно с того дня знаю, как все суетное, мятежное с души сложил. Освободился. И хорошо, и спокоен. То есть не то чтобы совсем спокоен, так утверждать – гордыня, грех. Может, и не совсем еще от мирского отрешился, не совсем отринул, а стараюсь, батюшка, изо всех сил натуживаюсь. Ох, трудно глисту-то мирскую в своем чреве заморить, но стараюсь, стремлюсь. И не теряю надежду искупить свое прошлое, когда в богатстве огрузал, в чертогах живал». Высказался – и будто б застыдился, что все это он о себе, о себе. «Смотрите, – показывает, – райская птица». И точно, господа, райская! Только не глазами надо, а ушами. Взглянешь; личико-яблочко печеное, бороденочка мочалочкой, волосенки кочками, кустиками, ряса заплата на заплате, сапоги каши просят. Кто такой? А когда-то, давно, киевским послушником был. Не прижился – алкал паломничества. Во всех монастырях перебывал, всякую молитву на разный манер поет, такие fermata 14 делает, монахи учатся. «Это, говорит, – мое назначение, чтоб ни постоя, ни крова. У меня, ежели на одном месте, ноги тоскуют. Коли не в ходу, нипочем страсти свои не заглушить».
Шел Тихомиров, слушал Орлова, смотрел на людей, на хмурые пашни, на хмурое небушко, чувствовал усталость, мелькал соблазн податься к какой-нибудь станции, ехать поездом, но он прогонял соблазн, смотрел, слушал, шел, радуясь всенародной процессии, растянувшейся на шесть верст.
В сумерках подходили к первому привалу, назначенному в Больших Мытищах. Чуть накрапывало. С уст на уста побежало: «Мытищинские встречают». И точно, встречали во главе с местным духовенством, готовым принять на ночь московские святыни в своем храме Владимирской божьей матери.
В сумерках, тихо и слабо окропленных дождевыми каплями, при виде еще редких огней Больших Мытищ, впереди крестного хода запел женский хор в сотни голосов: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!»
Этим огромным хором управляла, высоко вознося правую руку и сама заливаясь сильно и звонко, древняя-древняя костлявая старуха, известная не именем, а как бы по должности: Регентша. Так все и звали, так все и обращались: Регентша. Была она в байковом платке, в теплой свитке, в мужицких сапогах, с котомкой была и посохом. Давным-давно ее родительница, преставляясь, наказала доченьке не живать в городах, где одна суета и слезы, а ходить и ходить, не покидая пути-дороженьки, жить середь «странных», то бишь странствующих. Отца своего, покойника, какого-то писца-канцеляриста, старуха определяла «самоубийцей» – душу свою в винище утопил, как есть сгорел, – и Регентша смахивала слезу. Вот уж седьмой десяток лет не оставляла она пути-дороженьки.
«Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» – пел женский хор, когда крестный ход медленно втекал в Большие Мытищи.
На берегу речки под ветлами и ракитами были наскоро сколочены длинные дощатые столы и скамьи. Костры пылали под котлами, вода кипела. Торговцы съестным, все почти москвичи, распрягали лошадей и, вздыбив оглобли, вешали керосиновые фонари. У возов с караваями и сизо-багровой колбасой толпились богомольцы. Во всех окнах горели свечки.
Стемнело. Дождик покропил и умолк, ветер, холодный, с присвистом, налетая порывами, взметывал и шатал костры, раскачивал фонари на оглоблях, перемещал тени и полосы света. Вся эта картина, необычная, живая, но словно бы и выхваченная из стародавних времен, с массою лиц, фигур, телоположений, была как на заказ для жанриста, и профессор Училища живописи, поездом подоспевший в Большие Мытищи со своими учениками, тотчас потерял их – рассеялись, вооруженные альбомами и карандашами.
Горский и сам работал, пока совсем не окоченел. Ему было совестно оставлять бедняков паломников, располагавшихся вповалку на голой земле, но он все же счел за благо убраться в тепло, в чайную, где сообразил загодя вручить хозяину задаток.
Чайная была полнехонька. Не то что пройти – не пошевелиться. Даже и не поймешь, как половые, держа над головой подносы, все же лавируют в эдакой гущине. Дух стоял – топор не упадет, плотный дух запревшей одёжи, пыли, сапог, спитой заварки.
Набравшись решимости, Горский двинулся наискось через залу, к дверям в задние комнаты. Ему сразу стало жарко, он выдирал полы своего пальто, терявшего, и притом с мясом, пуговицу за пуговицей, но, деликатнейший, повторял: «Извините… Благодарствую… Извините…»
Увы, и в задних комнатах, отведенных для чистой публики, тоже оказалось как сельдей в бочке, и Горский, беспомощно сердясь на хозяина и половых, недоуменно озирался.
Место его было занято Орловым, подле сидели Тихомиров с Александровым. Тихомиров окликнул недавнего своего соседа по летнему отдохновению в Соломенной сторожке. Горского устроили между двух стульев. Придвинули ему калачей, налили чаю.
Тихомиров взглянул на Орлова, тот понял, сказал: «Ладно» – и повторил, с чего только что начал. Горский в первую минуту слушал вполуха, однако, расслышав: «Толстой… Лев Николаевич», заинтересовался.
Орлов без пиджака, в расстегнутой ситцевой рубахе, роняя на лоб седую прядь, рассказывал, как он однажды в Хамовниках, у Льва Николаевича, застал общество, рассуждающее о коренных поворотах в русском девятнадцатом веке. Называли кто что: освобождение крестьян, судебную реформу, учреждение земства… Художник Ге, Николай Николаич, тер плешь, поглядывал – глаза голубые, ясные – посмеивался. «Вы что? – заулыбался Толстой. Сразу было видать: влюблен, положительно влюблен в Николая Николаича. – Вы что?» А Ге отвечает: есть два события действительно для нас, русских, коренные. Наполеоново нашествие, а следствием – наше, в Европу: тут начало интенсивного внедрения западных правовых и революционных понятий. А второе… Второе, говорит, мартовская катастрофа, убиение государя. Пропасть разверзлась, а из пропасти – грозным столпом вопросы совести и религии.
– Вопросы совести… – тихим эхом отозвался Горский, дотоле молчавший.
Тихомиров поднял глаза на Горского и тотчас вспомнил заглохший пруд в Петровском-Разумовском.
– О! – сказал Тихомиров, сухонькой ладошкой касаясь колена Горского. – Послушайте, вот же Владимир-то Федорович, он всех знавал.
– Кого «всех»?
Горский не понял Тихомирова. Его понял Орлов. Потому и понял, что думал об этих «всех» – Нечаеве, Успенском, Иване Иванове. А думал-то потому, что видел еще один «поворот», не отмеченный художником Ге, многими, увы, не отмеченный.
Тихомиров ответил Горскому, кого это «всех» знавал Орлов. Горский припал грудью к столу:
– Ивана Иванова тоже?
– Тоже, – вздохнул Орлов. – Однако, простите великодушно, мне бы не хотелось в такой день…
– Да, да, – волнуясь, согласился Горский, – в такой день… Но если б потом, позже, в Москве? Я был бы чрезвычайно признателен, Владимир Федорыч! Мне нужно увидеть похожего, не фотографически, это пустяки, но похожего на несчастного Иванова.
– Знаете ли, – задумчиво проговорил Орлов и внимательно всмотрелся в Горского, – это, знаете ли, и трудно и нетрудно. Поищу, обещаю.
За ночь дорога раскисла от дождя, небо устилали низкие тучи без промоин, ветер охлестывал злее вчерашнего. Но опять пели «Святый боже» и опять несли хоругви, шли неуклонно, с непокрытыми головами, наперекор непогоде и слякоти. Версту за верстою, меся грязь, миновали паломники второй ночлег в селе Братовщине, где некогда останавливались и царственные богомольцы, миновали и Воздвиженское, что на холме, а окрест овраги да болота, то самое Воздвиженское, близ которого троицкие иноки благословляли Минина и Пожарского…
И вот уже послышался лаврский звон Сергиева посада. Дождь перестал, ветер утих, посветлело. Душа Тихомирова ширилась восторгом. И спросил господь Иова: «Где путь к жилищу света?» К достославной Лавре укорачивался путь, и Тихомиров думал, что вот же – этого дня все ждали пятьсот лет.