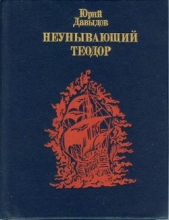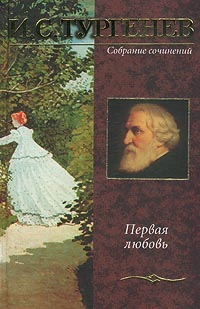Соломенная Сторожка (Две связки писем)

Соломенная Сторожка (Две связки писем) читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На крышке серебряной чернильницы топорщил крылья двуглавый орел: он ждал Тихомирова.
Оставляя чиновничью службу, Тихомиров ездил с прощальными визитами. Все они неинтересны, но об одном на Сергиевскую, к ее сиятельству, надо рассказать.
То не был визит вежливости, то было желание заручиться сотрудничеством княжны в «Московских ведомостях». Не потому, что всяческое начальство почтительно выслушивало старую даму с крупным морщинистым аристократическим лицом и гладко причесанными седыми волосами, старую даму, у которой такие прочные связи и при дворе, и в церковных кругах. Нет, не связи были нужны Тихомирову, а подвижничество княжны в низших слоях народа. Деятельная доброта основательницы Общины сестер милосердия, попечительницы больниц, вечного ходатая за сирых и обиженных освещалась светом веры, соединявшей твердую неколебимость с нежным состраданием. Вряд ли покойный Леонтьев, сокрушитель розового христианства, счел бы княжну настоящей православной, но Тихомиров, направляясь на Сергиевскую, об этом не думал, а думал о том, что репутация княжны куда весомее репутации многих иерархов, а потому и глагол ее с колокольни «Московских ведомостей» будет звучнее и проникновеннее.
Бедный статский советник знать не знал об обстоятельствах, которые, надо полагать, побудили бы его отречься от своего намерения. По чести сказать, не знал о них и автор этих писем. И если б так и остался в неведении, то, право, не стал бы сопровождать Тихомирова на Сергиевскую.
Обычно все необычное – следствие терпеливых разысканий. А тут… Возвращаясь из курительной комнаты в архивный зал, я обронил взгляд на стол с грудой папок и картонок, приготовленных не для меня, а для другого читателя, и увидел – «Дневник неизвестного лица (женщины) о посещении заключенных Шлиссельбургской крепости».
Я ухватился за эти тетради. Одна была в синей обложке, две – в светло-коричневой. Нечего врать, будто разгадка анонима взяла у меня много времени. Ведь в мемуарах шлиссельбуржцев упоминалась женщина, «выдающаяся по уму и энергии». Летом и осенью девятьсот четвертого она часто переступала порог казематов: единственная из неофициональных лиц, кому это дозволили за все время существования новой каторжной тюрьмы.
Княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова очень хорошо сознавала ужасный атеизм людей, замурованных в казематах. Но она полагала, что долговременное заточение разъедает даже убеждения гранитной твердости. Она не верила в их неверие. В черных безднах заточения не могли не тлеть искры любви христовой. Сказано: «Невозможное человекам, возможно богу». Господь обитает в церкви, она, старуха, член церкви, и через нее господь спасет ожесточенные сердца. Раз человек крещен, он не лишен благодати божьей.
Трижды в неделю эта старая, по восьмому десятку, женщина садилась в шлюпку и отправлялась из города Шлиссельбурга на остров, в Шлиссельбургскую крепость. Возвращаясь в гостиницу, заполняла линованные тетрадки – те, что много лет спустя попали в мои руки.
Ее принимали радостно, с ней говорили откровенно, она была ведь первой оттуда, первой, кто пришел не по инструкции, и ей рассказывали о далеком-далеком домашнем, о матерях уже умерших или еще живущих, о своей молодости, о тоске по воле. Но читаешь: «Мне трудно, тяжело было узнать о его неверии»; «Иисуса Христа он любит, но просто как человека»; «Рад был бы веровать, да нету веры»; «К области веры равнодушен»; «На воле пошел бы в церковь, да только не в городскую, а в деревенскую, чтоб на взгорке, чтоб видно было и поле, и лес, как, бывало, в мальчишестве»; «К выходу из крепости равнодушен, ему ничего не нужно, но часто и много думает об угнетенных и страждущих».
«Доченькой» называла Марья Михайловна ту, которую комендант именовал нумером одиннадцатым. А унтер-офицер на вопрос княжны, к кому нынче можно пойти, почтительно отвечал: «Оне велели к такому-то».
Нумером одиннадцатым, «оне», была Фигнер.
Читаю: «Глубоко я сегодня страдала от произвола тюремного начальства, не допустившего Веру Николаевну говорить со мною наедине».
Читаю официальное: комендант и его помощник, ротмистр, стояли в коридоре у притворенных дверей, «могли слышать каждое слово и вместе с этим наблюдать в дозорное стекло, чтобы предупредить возможность какой-либо взаимной передачи. Перед допущением ее к заключенным я сказал ей, о чем она не может говорить, согласно тюремным правилам».
Хлопоча о дозволении проникнуть в казематы, старая княжна твердила: «Еще никто и никогда не обращался к ним со словом любви. Допустите меня к ним. Быть может, сердца их смягчатся, и они обратятся к богу». У Верочки Фигнер не смягчилось ли сердце? Но… «Не осенится ли Вера Николаевна крестным знамением?» – «Нет, это было бы лицемерием». – «Не позволит ли Вера Николаевна перекрестить ее?» – «Нет!»
А один из нумерованных узников, тот и вовсе ни разу не принял утешительницу и примирительницу. Говорил иронически: «Заявится – так и шибает ладаном». Говорил: «На что мне эта старушка? Но если и пожалует; я под кроватью не спрячусь». Нет, не хотел видеть утешительницу нумер двадцать седьмой. Огорченная княжна смирилась: «Очевидно, и такие неверующие, как Лопатин, нужны богу». А своей «доченьке», милой Верочке Николаевне, сказала, сжимая ее руки: «Со всеми вашими товарищами, включая и Германа Александровича, чувствую себя членом одной страждущей семьи. О, я понимаю вполне, какие пробелы у меня в смысле знания жизни и людей, но у меня, друг мой, бывают такие зарницы, когда я много, сильно и глубоко люблю человека. И такие зарницы всякий раз, когда я прихожу сюда, к вам».
… Ничего об этом знать не знал статский советник Тихомиров, направляясь на Сергиевскую, к Марье Михайловне Дондуковой-Корсаковой.
Была она в темном простеньком платье, в стоптанных башмаках. Мелким глоточком отпивала молоко из чашки, мелким щипком отламывала кусочек розанчика. Милейшая старушенция? О, какой властной энергией дышат крупные черты этого породистого, стародворянского лица. Один ее пылкий почитатель уверял Тихомирова, что у княжны Марьи Михайловны такие же лучистые глаза, как у княжны Марьи из «Войны и мира»… И точно, лучились, в первые минуты лучились, но, пока Тихомиров развивал план участия в «Московских ведомостях», большие серые глаза старой княжны не то чтобы померкли, однако лучистость утратили, и Тихомиров явственно ощутил свою обидную ненужность. Казалось, кто ж, как не он, усердный прихожанин, озабоченный и благоустроением простолюдинов, и вопросами церковными, вот и с царем беседовал, и саратовский архиерей Гермоген к нему наведывался, и отец Иоанн Восторгов внимает, – кто же, как не он, должен быть значителен для нее, княжны Марьи Михайловны? Стараясь взбодриться, а вместе и чувствуя, как страдает самолюбие, как растет раздражение и обида, Тихомиров стал рассказывать княжне о давнем своем желании переселиться поближе к Троицкой лавре.
– Я туда частенько урывался, – говорил он, стараясь перехватить ее взгляд, – там все-таки лучше, чем где бы то ни было. Там мне все родное: трава, деревья, цветы, птицы, собаки, все прежнее. Люди переменяются, богомольцев все меньше, да святыни-то прежние, свои мне, частица моего «я», пока и оно, подобно прочему, не перестанет быть… Я там, знаете ли, и дачу, бывало, нанимал. Вот все ужасное лето пятого года там прожил, дача монастырская, Вифанией называется, а сторожа Егором звать, монашек занятный… Нет, нет, Марья Михайловна, не нужно мне ничего, я б одного хотел – покоя, тишины, безмолвия, чтобы в душу свою вдуматься, реально, что ли, вдуматься, а не то чтобы теоретически, как многие.
Мелкими глоточками отпивала она из чашки, мелкими щипками отламывала кусочки розанчика. Потом строго сказала:
– Вы все о себе. А на земле много горя, слез много, а вы – «покоя», «безмолвия»… (Вошла горничная.) Ты чего, милая? – спросила княжна.
– Господин Лопатин спрашивают. Прикажете принять?