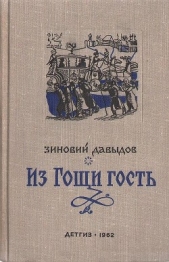Беруны. Из Гощи гость

Беруны. Из Гощи гость читать книгу онлайн
Вошедшие в эту книгу повесть «Беруны» и роман «Из Гощи гость» принадлежат писателю, оставившему яркий след в советской исторической художественной литературе. Темами своих книг Зиновий Давыдов всегда избирал напряженные и драматические события отечественной истории: Смутное время, Севастопольскую оборону... Он выше всего ценил в истории правду и те уроки, которые способна дать только правда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
голову в рыжей воде. Кузёмка остановил коня.
– Ты... девка... что? – молвил он, не понимая, к чему бы это взрослой девке в поганую
лужу всем лицом тыкаться.
А девка та, оставаясь на корточках, обернулась к Кузёмке еле, замахала руками, стала
дуть себе на руки и заливать себя водой.
– Горю!.. – закричала она вдруг, подскочила с земли и метнулась к Кузёмке. – Заливайте
огонь на мне, люди, кто ни есть!.. Топчите, милые, уж сердце занимается...
И она упала без памяти под свесившиеся с воза Кузёмкины ноги, растянулась в грязи вся,
в красной сорочке дырявой, едва прикрытой изодранным коричневым платом.
Кузёмка с Антонидкою подняли девку, положили ее к себе на воз, ветошью какою-то
укрыли и повезли через Сенную площадь и дальше – по Мясницкой улице, по проездам и
проулкам – на хворостининский двор.
XX. ПИР
Здесь стоял шум, конюхи седлали князю Ивану бахмата: надобно было князю ехать после
полудня к Василию Ивановичу Шуйскому на пир. Засылал Шуйский людей своих еще
третьего дня, кланялись они князю Ивану, просили о чести Василию Ивановичу. И вышло тут
Кузёмке скорое похмелье, да во чужом пиру. Кузьма и о девке беспамятной на возу своем
забыл и сразу пересел с воза на каурую кобылу, чтобы идти у стремени князя Ивана. Они
вместе и поехали со двора – князь Иван подбоченившись, а Кузёмка трясясь в седле как
попало, точно не стремянный это был, а мешок с мякиной подмокший.
Князя Василия двор у Покрова под Псковской горой был весь заставлен телегами, с
которых артель мужиков, согнувшись и скрючившись, перетаскивала кипы овчин и груды
нагольных тулупов в раскрытые настежь подклети. И дух стоял здесь такой от овчин
переквашенных, что под стать и скотопригонному двору на Мясницкой. Кузёмка и то с
похмелья не сразу смекнул, что за притча такая: Мясники не Мясники, а разит за версту... Но
вспомнил: почитай на все Московское государство протянул князь Василий Иванович свои
загребущие руки. В необозримых его вотчинах многое множество кабальных холопов,
1 Сделанные из явора (вид клёна).
великая рать подневольных людей только и знала, что шкуры обивать, в квасе мочить,
коптить да расчесывать. Овчины русские и ордынские, мерлушки и смушки, поярки и
линяки1, шубы нагольные и шубы крытые, полушубки и шапки, – их развозили в несметном
числе князя Василия люди по ярмаркам и торгам. Кузёмка хотел было тут же прикинуть,
сколько ж это денег набивается к князю Василию в мошну за год, за день один, за час, но
князь Иван Андреевич бросил своему стремянному поводья, и Кузёмка тоже с кобылы своей
слез.
«Шубник, – думал князь Иван, поднимаясь по лестнице, морщась от запаха овчины,
которым прокисли насквозь все стены ветхих, приземистых, неопрятных покоев. – Шубник...
Незачем было и ездить к нему». И то: чего он здесь не видал, князь Иван?.. Стариковской
дури, вздора, стародревней злости?.. Да вот пристал же старик... И людей своих к князю
Ивану засылал и сам кланялся не раз. Недавно на Постельном крыльце в Верху вцепился он
князю Ивану в кафтан: «Да мы с батюшкой твоим... да мы еще с дедом твоим...» Ну, и обещал
князь Иван быть в среду после полудня, вот и слова держаться пришлось. А теперь хоть
обратно поворачивай: не с кем и не для чего тут князю Ивану пир пировать.
Князь Иван, может быть, и поворотил бы обратно, если бы из сеней не бежал ему
навстречу замызганный челядинец проводить об руку гостя в княжеские покои. Да и сам
князь Василий, в одно время плюгав и брюхат, вот он семенит из покоя, щурит глазки
подслеповатые, рад-де он гостю, кланяется, просит в трапезную, усаживает за стол.
Князь Иван сел, чару ему поднесли. Выпил он чару за здоровье хозяина, огляделся:
низкая палата вся житиями святых расписана; на столе золотые и серебряные сосуды; на полу
ломаются карлики, шут с шутихой. А за столом на лавках, крытых ветхой посекшейся
парчою, разместились гости в тафьях2 и шубах. Вон Мстиславский рядом с хозяином, вон
Михайла Татищев, подле него два брата Голицыных, дальше Семен Иванович Шаховской –
князь Харя, обвязавший красным платком распухшую щеку. «Дударь, – вспомнил князь
Иван. – И в ту, говорит, дуду можно и в сю... В какую прикажут. И все они тут собрались
такие: стародумы, хитролисы... Добро, не очень их уж и жалуют ныне».
Пир только начинал развертываться; он был, как говорится, еще в полупире. Гости после
холодных блюд, после щей и похлебок еще только копались в сырниках и перепечах, ожидая
ухи куриной и лосины с чесноком. Но уже кое-кто успел от выпитого вина и съеденных яств
осоловеть порядком, а иной даже из-за стола выбегал в соседнюю палату и спустя немного
времени шел снова к столу, мокрый и бледный, с расстегнутым воротом, с глазами навыкате.
Рядом с князем Иваном сидел монах, беспрестанно икавший себе в руку. Да и вообще
монахов было здесь вдоволь. Архимандриты и игумены, казначеи и келари, старые и
молодые, в коричневых однорядках, в рясах вишневых либо в черных манатьях, – все они
пили и ели, дразнили шута с шутихой, жаловались на смутное время.
– Ты, отец Авраамий... ты будешь кто? – наклонился неподалеку от князя Ивана
рыжеватый дородный монах к другому, подседоватому, которому дородства тоже было не
занимать стать.
– Я?.. – удивился вопросу такому подседоватый.
– Ну, ты.
– Я есмь старец Авраамий, Святосергиева подворья прикащик.
– Нет, Авраамий, ты – непогребенный мертвец, – захохотал рыжеватый, тыча кулаком в
бок своего подседоватого соседа.
– Почему ж так? – изумился подседоватый.
– А так и сказали в Верху: монахи суть мертвецы непогребенные. Хо-хо-хо!.. Засмердел,
дескать, иноческий чин смердением трупным, по кельям живучи развратно. Надобно,
дескать, у монастырей села отнять, а чернецы б де и богу молились и сами б землю пахали,
словно пашенные мужики. Вона, отец, время каково смутно!
– Ахти! – сокрушился душевно подседоватый и стал хлебать из миски серебряной
1 Мерлушками называются овчины с малых ягнят; если притом овчины мелкокудрые, то они называются
смушками; линяки – овчины с молодых ягнят, начавших уже линять; поярки – овчины с молодых овец.
2 Тафья – шапочка вроде тюбетейки, закрывающая только макушку головы.
куриную уху.
Как и другим, хлебосольный хозяин посылал и князю Ивану через стольников своих
ломти хлеба, куски лосины, чары красного вина и боярского меду. Но князю Ивану с его
подстриженной бородкой и в новом коротковатом кафтане поверх венгерской куртки было не
по себе среди этого сборища мокрых бород, в которых застряли рыбьи кости, бок о бок с
ворохом старозаветных шуб и манатей, залитых наливками и щами.
Князь Иван пил мало, еще того меньше ел, и это не ускользнуло от внимания хозяина,
обратившегося к князю Ивану со своего места:
– Князь Иван Андреевич! Почему закручинился, не пьешь и не кушаешь?.. Обидно мне
это... Я чай, тут всё люди свои: боярство, духовные власти, купчины первых статей... И сам
ты породою человек лучший. Вот и поешь с нами хлеба и держи с нами добрую згоду. . 1 А
коли будет у нас добрая згода, то будет и доброе дело.
Князь Иван встал, поднял вверх свою чару, поклонился Шуйскому и чару свою осушил.
И, опустившись на лавку, стал умом раскидывать: «Добрая згода... Доброе дело... Какие такие
там еще дела?.. Чего еще там затеял хитролис плюгавый? При Годунове был для него
царевич – вор, Гришка Отрепьев. После Годунова стал истинно царь, Димитрий Иванович. А
не унялся тогда хитролис, почал под государя подкапываться, ковы ковать, на жизнь его
умышлять... Ну и привели затейщика на казнь. А и помиловал же его государь, жизнь
даровал, из ссылки воротил, вернул ему и вотчины и поместья. Живи, старик, в Боярской