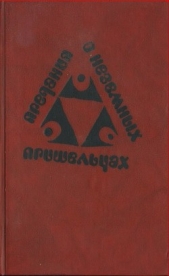Встреча. Повести и эссе

Встреча. Повести и эссе читать книгу онлайн
Современные прозаики ГДР — Анна Зегерс, Франц Фюман, Криста Вольф, Герхард Вольф, Гюнтер де Бройн, Петер Хакс, Эрик Нойч — в последние годы часто обращаются к эпохе «Бури и натиска» и романтизма. Сборник состоит из произведений этих авторов, рассказывающих о Гёте, Гофмане, Клейсте, Фуке и других писателях.
Произведения опубликованы с любезного разрешения правообладателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Начало 20-х годов прошлого столетия. Со времен Венского конгресса в Европе владычествует Священный союз монархов Австрии, России и Пруссии — неприкрытая, жестокая реакция, стремящаяся затоптать любые ростки либерализма, а тем более демократии. Слежка, идеологический террор, подглядывание в сфере частной жизни, полицейский произвол, оголтелая цензура и специальный институт, учрежденный самолично прусским королем, так называемая «Особая правительственная комиссия по расследованию политических преступлений». Туда-то и назначают Гофмана, с тем чтобы этот блестящий правовед изыскивал юридические возможности преследования неугодных. Однако Гофман обманул надежды своих работодателей; вопреки указаниям свыше он добивается оправдания там, где должен вынести обвинительный приговор, как, например, в деле Фридриха Людвига Яна [182], а это настолько неслыханно, что прусский полицей-директор, действительный тайный обер-регирунгсрат Карл Альберт фон Камптц (пусть каждый останется при своих титулах) подает жалобу прусскому министру внутренних дел, а министр переправляет оную королю: дескать, судьи вроде Гофмана срывают работу Особой комиссии, ибо «ставят свои личные убеждения превыше закона». «Законом» здесь именуется не что иное, как указание сверху, требующее вопреки фактам вынести заведомо ложный приговор, вместо того чтобы блюсти законы, а судебный советник Гофман как раз их и блюдет; поскольку же этот судебный советник Вильгельм одновременно является писателем Амадеем, то писатель и выводит в повести «Повелитель блох» вышеозначенного господина фон Камптца под видом придурковатого полицейского соглядатая Кнаррпанти, имя которого легко прочитывается как анаграмма «Narr Kamptz» — «придурок Камптц». Все это становится известно, когда книга еще находится в типографии; Камптц отдает распоряжение перехватывать корреспонденцию Гофмана и изымает письмо, раскрывающее секрет, после чего рукопись арестовывают и глава о придурке Камптце исчезает в Секретном архиве Пруссии, где исследователи обнаруживают ее лишь в 1905 году. Только разве камптцы на этом остановятся? Против Гофмана возбудили дисциплинарное расследование, но тяжелобольной писатель «избежал» его: в июне 1822 года Гофман скончался от сухотки спинного мозга, не дожив до пятидесяти лет. И буквально до последней минуты он пишет, вернее, диктует, так как уже скован параличом, диктует, пока жена не откладывает перо, потому что голос писателя обращается в предсмертный хрип. Затем он велит перевернуть себя на бок, лицом к стене, и меньше чем через полчаса умирает. Накануне, «чтобы возбудить жизненные силы», его, как впоследствии Генриха Гейне, жгли раскаленными утюгами вдоль позвоночника, и он выдержал эту пытку, даже отпускал мрачные шутки, опять-таки дошедшие до нас оттого, что они вполне под стать ходячему представлению о писателе. Скончался Гофман в безденежье, оставив столько долгов, что жена была вынуждена отказаться от наследства; и от духовного его наследия на немецкой земле долгое время отказывались, смею даже сказать, в определенном смысле отказываются и поныне.
Вместо этого ему была уготована сомнительная известность. Для многих и многих потомков Гофман остается «жутким» Гофманом, и таким его видели уже современники — полубезумным алкоголиком, который в легкомысленной компании пьянствует ночи напролет и высвобождает свои горячечные видения в настолько беспорядочной фантастике, что здравомыслящий человек не вправе принимать ее всерьез. «Смотри, не верь россказням Гофмана», — остерегали не только матери дочерей, но и преподаватели литературы своих студентов, а одна глупенькая оперетка еще и закрепила это ходячее представление так, как на это способна только оперетка, особенно если ее музыка легко запоминается. И самое ужасное, что на первый взгляд он как будто бы такой и есть. Поэтому необходимо воздать должное правде, а она гласит, что Гофман, вне всякого сомнения, был алкоголиком, хотя спиртное даже в малых дозах переносил плохо и его еженощные бдения в погребке Луттера и Вегнера — это напротив театра возле Жандармского рынка — были чисто интеллектуальными оргиями: там обнажали законы эстетики, а не груди гризеток. А все же: и пьяницей Гофман был, и держался он эксцентрично и манерно, что же до его литературного творчества, то никто не станет отрицать, что в нем кишмя кишат привидения и духи. Там топает вверх по лестнице Песочный человек, чтобы вырвать детям глаза, а король гномов Даукус Карота высовывает из-под земли на морковке свое обручальное кольцо; там, в замке, вздыхает и стонет призрак; жиреют на трупах вампиры; покойный еврей-чеканщик сидит в пивной на берлинской Александерплац и выбивает из редьки дукаты, а давным-давно умершие ученые Сваммердам и Левенгук устраивают дуэль на подзорных трубах; сатана варит эликсир, отведав которого человек видит мир в сияющем блеске; министр тонет в ночном горшке; блоха читает мысли; кот сочиняет стихи; в природе исчезает зелень; у саксонского тайного архивариуса брат — дракон, а дочери — змейки, и так далее, и тому подобное, и прочая, и прочая, — но ведь Гофман писал и истории, действие которых разыгрывается в привычной обстановке, среди ремесленников, на торжище и без какого бы там ни было ведьмина отродья; посему напрашивается вывод, что настоящего, серьезного писателя — а поскольку в таких случаях от нас непременно требуют точного определения, то, стало быть, и писателя-реалиста — искать надобно как раз в этих произведениях, а отнюдь не в сомнительных опусах, какие сам автор именует «ночными повестями» и «сказками». Но сделать такой вывод — значит впасть из одной крайности в другую, притом двоякую: отречься от своеобразия Гофмана означает одновременно до неузнаваемости извратить подлинную ценность его, ну, скажем, добропорядочных историй, ибо мы свели их исключительно к этой самой мнимой добропорядочности, а ведь там дела тоже идут таинственно, надо только рискнуть и приглядеться внимательнее.
Ну вот, наверно, с досадой думаете вы, все-таки «таинственный» Гофман; и я бы не стал возражать против этого эпитета, будь я уверен, что его истолкуют правильно, не в смысле бегства от реальности.
Гофман-то о бегстве вовсе не помышлял, как раз наоборот. Он звал на помощь духов, чтобы понять окружающие будни, их реальность вовне, на рыночной площади, и внутри, в сердце, понять всю полноту жизненной действительности, открывавшейся ему и как судье, уяснить себе прихотливую вязь людских поступков, в которых непременно заключено и такое, что плохо поддается рациональному объяснению, ибо лежит, видимо, за пределами разума, — все то необычайное, порой смешное, порой возвышенное, то призрачное, колдовское, что рождает кошмары, смущает и доводит до безумия, хихикает, и бормочет, и пыхтит, и зловеще шушукается, и бранится, и вкрадчиво шепчет, и визжит, и вопиет в неистовой жажде убийства или в упоении любви, — словом, все то, что принято называть «таинственным» и что могло бы называться так и у Гофмана, если б только люди захотели воспринять это таинственное, начиная с призраков, ведьм, строя перевертышей, людей-автоматов и кончая очаровательными эльфами, как принадлежность реальности. «Сам посуди, — писал Гофман своему старому другу Теодору Гиппелю, будущему главе западнопрусского правительства, — сам посуди, наши беды в корне противоположны: ты грешил избытком фантазии, во мне же слишком сильно чувство реальности…» Вы не ослышались, Гофман признает за сухарем Гиппелем избыток воображения, а себе приписывает обратный недостаток: он-де слишком большой реалист. И сказано это не в шутку и не из кокетства, а очень и очень серьезно. Что послужило поводом к высказыванию, теперь не установить, но вполне возможно привлечь аналогии из позднейшей деятельности обоих: Гиппель предается фантазиям об осуществлении сердечного союза между престолом и народом — Гофман воссоздает в своем фантастическом искусстве повседневность, где бесчинствует «придурок Камптц».
Слишком сильно в нем чувство реальности.