Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
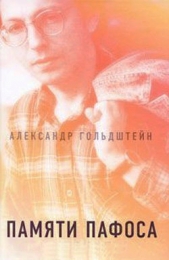
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
УТЕ И БЕРТ, ИЛИ ПАМЯТИ ПАФОСА
Умножив несовпадение хронологий на расстыковку пространств, получим союз, чья предназначенность сильнее попрания эмпирических вероятий. Уте Лемпер, певица, танцовщица, кабаретная дива, двое детей, произведенных прямо у рампы, три родных языка, в немецкую пословицу — на радость партера и закулисную зависть подруг — вошли, стуча каблуками, ее невыразимо длинные ноги в трико. Тише, скромней, не высовывайся, твоя репутация, бормотала мать ежедневно. Все сделала наоборот, вамп-облик оформился на перегоне от сбивчивой юности к зрелым рекордам труда и диеты, 34 года, физически совершенна, торопится долго, счастливо жить. Бертольт Брехт, поэт, драматург, режиссер, теоретик, крепчайших куритель сигар, ранние фотографии сосредоточили просьбу об испытаниях и надменную готовность выдержать все, с последних, скосив глаза, смотрит одряхлевший киник-даос, у которого нет уже ни желания, ни уменья возвращаться из участившихся приступов слабости, куда его загоняли депрессии, известка сосудов и далеко не срединное уклоненье Пути. Скончался берлинским ласковым августом 1956-го, зарыт близ могил двух святых германской классической философии, должно быть, в качестве эксцентричной ремарки и реплики к их чересчур отвлеченным скелетам.
Уте и Берт, время. Воображаю ваше свидание в одной из нескольких подходящих эпох или — ради вящей надежности после десятилетий невстречи — во всех сразу сподручных периодах, демонстративно развернутых веером. Вы могли б друг до друга дотронуться в пору Веймара, в плодоносной долине меж компьенским вагоном и нюрнбергским партсъездом, внутри ядом и медом текущего обнажения вольностей, коих небывалая расточительность, намагниченная вокруг множества автономий и равнозначимых центров (десяток, если не более, городов той республики состязались на ниве искусств и созидательно-разрушительных философий), мнится праобразом поздних, так во всей полноте и не свершившихся жизнестроений культуры. Вы поделили бы на два сердца предвоенный стоицизм его неуслышанности и столь понятное кочевое ощущенье бессилия, когда он, атеистический капеллан рассеянных войск («донесение экспедиции, переданное через забывчивого, героическое поведение, никем не увиденное»), после пророчеств в отечестве менял страны чаще, чем башмаки. Возможно, вам пришлось бы по вкусу и холодное, лбами в Стену упершееся взаимоупорство геополитик, ведь тогда худо-бедно еще не прогнили сверхценности страха и ненависти, придававшие особую прелесть беззаконной эротике и игре. Но сомнительно, что со своим честолюбием, которое требовало сопротивлений среды, он всерьез бы увлекся сегодняшней программно-непродуктивною атмосферой позднеантичного размягчения, всеядными кондитерскими церемониями без намека на страсть — безусловно, нелиберальное и оттого неприличное чувство.
Место: Восточный Берлин, его пригородные, как почему-то мерещится с расстояния, углы и укрывища, где им было б удобнее схорониться от аргусов из цветущих институций контроля. И Западный тоже, концерт Дэвида Боуи о подвижничестве разделенных, и конечно, воскресив в-себе-умершем бешенство молодости, он познакомил бы спутницу с сообществом профессионального бокса (настоящий спорт начинается на растрате здоровья), автогонками, иными какими-нибудь удовольствиями на территориях срамных и скверных кварталов, а в миг прощания, чтобы она острей захотела приблизить неизбежную повторную встречу, одарил бы циничным верлибром с предсказаньем того, что их обоих ожидает в дальнейшем. Форма одежды: перо упадает на клавиатуру компьютера, ибо платили и платят им не за наряд, но за его перемену, однако и здесь, не боясь погрешить против истины, укажем на обязательность главного, самолично Бертольтом изобретенного облачения, эпохиальной, как воскликнул бы русский поэт, экипировки гошиста — черная кожа, сжатые губы, стальные очки, отчаянно в(ы)зывающий взгляд. Разница в возрасте: считать недействительной.
Он не стал бы требовать верности. Эта условность, унаследованная от эксплуататорской алчности буржуазии, маскировавшей таким образом куплю-продажу на эротическом рынке невольниц, казалась ему подлой, как само принуждение, и к тому же он знал, что прекрасная женщина принадлежит всей массе желающих, она, словно тотем, есть достояние целого племени. Подобно льющейся из-под крана воде, ее не удержишь в руках, и, словно вода, она принимает очертания любой подвернувшейся емкости. Посему он добился бы от нее абсолютно другого. Нет, не верности — тотального подчинения. Только этим сладчайшим наречием разговаривал он со своими возлюбленными, и лишь этот язык они доподлинно понимали, научаясь со временем безошибочно, с лающим рвением исполнять его мысленные приказы и глубоко рациональные сумасбродства. Елена Вайгель, бескорыстная Кураж его Тридцатилетней войны, все эти годы волокла за собою фургон с Брехтовым скарбом, детьми, изгнанием, возвращением, возведенным в достоинство компромиссом и почти уж не возражала, так оно было привычно, когда возле нее, на месте еще одной ездовой собаки и дублирующей тягловой лошади, возникала какая-то новая женщина, дабы сменить своим телом выбывшую от нестерпимого напряжения предшественницу, товарку и клячу. Маргарете Штеффин, хрупкая товарищ Штеффин, чье сотрудничество в написании Бертольтовых драм традиционно изображается крохотными буковками для академических мелкоскопов, если верить не лишенной основания клевете, сочиняла в пьесах патрона целые сцены; укутывая беженской шалью туберкулезное легкое, она всю себя выхаркала без компенсаций и одинокая умерла под звездой Коминтерна, в транзитной, sic transit, Москве, не забыв привести в надлежащий порядок трогательно гербаризированную ею листок за листочком эмигрантскую лирику Берта. Рут Берлау, другая неотлучная муза, его пережила и возненавидела, у нее был тяжелый садомазохистский роман с посмертной маскою Брехта, которую она держала в шляпной коробке и однажды в припадке воспоминаний отшибла слепку нос. Зависимость Рут от покойника была столь подавляющей и с течением лет достигла такой гиперболической степени, что для титулования этой непримиримости в языке не существует иного обозначения, нежели слово «любовь». Женщины безропотно растворялись в нем, будто покончивший с колесом превращений буддист в бездне Ничто, и кабы они заранее спросили его, как следует толковать эту пропасть, что именно напоминает она, Единосущность ли со всем Сотворенным, ласковую ли невесомость собственного тела, лежащего в воде и (вариант) скользящего в сон, или это жестокое, бессмысленное Ничто, квинтэссенция отовсюду грозящих пустот, — он, точно Просветленный из притчи о горящем доме, небрежно сказал бы им, что на этот вопрос нет ответа.
Уте Лемпер подстерегала та же участь, но она, не дождавшись свидания во плоти, опередила события, чтобы достойно встретить рабство и нареченность. Лемпер поет Брехта и Вайля, Лемпер танцует Брехта и Вайля. Зонги анархо-урбанизма на грани меж Веймаром и расово-безупречным порядком, вырожденческое, в чистом виде, искусство, трехгрошово-дендистское, без кавычек и прописной кинолитеры, кабаре, ноги как никогда выше плеч. В голосе по законам этого жанра — социальная критика, деньги, издевательство над утопией партнерства сословий, звуковые флюиды естественных в Метрополисе сомнамбулизма толпы и хищничества одиночек, брехтовский выкрик о том, что сначала ты ешь, а мораль приходит потом. Родом из Мюнстера, где незыблемое единообразие уклада установилось со времен коммуны анабаптистов, прилюдно рубивших головы мужчинам и коллективно употреблявших городских дев и жен, она быстро отреклась от того, что обязана была перенять, и подалась в Мюнхен, Берлин, снискав репутацию птицы, щебечущей наперекор национальному самочувствию соплеменников. Лемпер слишком талантлива для Германии, написано либеральным арт-критиком, я европеянка, подтверждает она, немцам не свойственны душевные благородство и щедрость, это подавленный, растерявший свою самость народ, Лемпер необъективна к историческому воссоединению нации, отмечается справа и сверху, объединение искажено высокомерной враждебностью западных немцев, отвечает она и, по сути, эмигрирует в Лондон, Париж, вновь и вновь обращаясь к дням Веймара и успев напоследок сказать, что хребет германской культуре сломали нацисты.


























