Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
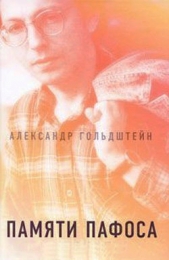
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь ясно, в чем, согласно Дэмиану и «Сенсации», состоит коренное несходство современного и «постисторического» искусства. Первое знает, что такое есть смерть, оно само стало смертью, пусть плодоносящей и одаряющей, второму это знание еще предстоит. Между ними, следовательно, нет реального диалога, эмпатии, взаимопроникновенного чувствования-понимания; лишь гротескный, псевдопартнерский обряд, когда одна сторона, втайне сознавая безнадежность затеи, торопится взять у другой, что осталось, а та из своей отрешенности позволяет использовать себя в качестве резервуара заимствований, полигона для пародических спекуляций и остраненного манипулирования кровью оплаченным материалом. Большинство постсовременных объектов Sensation полнится отзвуками современного искусства, которое, в глазах одолжающихся, разрастается до гигантских размеров и совпадает с окоемом западной художественной цивилизации как таковой. Отсюда чистая радость ленд-лиза, донатора не убудет. Висит нечто теплое с голубыми отпечатками зада и ляжек, рядом свежеокрашенный, вероятно, по ночам подновляемый, чтоб не просох, синий стул. Не возбраняется сесть и измазаться: ухмылочная перекличка с антропометрией Ива Кляйна, с его исступлением, метафизикой, протащенными по холсту натурщицами, ранней гибелью, надеждой на исцеляющее предназначенье искусства и магические полномочия художника, смех да и только, хотя бы и горький, чего композиция не скрывает. Бледных тонов изможденец торчит в позе Уорхолова Элвиса Пресли и сжимает пистолет Сида Вишеза, безумного из «Секспистолз», который издевается над гимном Америке Фрэнка Синатры и, не собираясь гнить за компанию с Джонни Роттеном, в приступе передозировки покрывается мертвенной бледностью на излете 70-х, столько имен в одной фразе, слой на слое, задача изображений этого типа. Множество отсылок даже не к поп-арту, а к мифологическим и культурным воспоминаниям об эпохе, к той памяти, что слагалась благодаря облучениям поп-артными инспирациями. Масса других извлечений из кладовых modern art, но это только преамбула, пролегомены к явлению человека, его образа, подобия и печального ритуала. Он приходит не сразу, частями, из дальних кругов и, перескакивая с орбиты на орбиту, устремляется к центру половыми признаниями на матрасе, порубленными муляжными торсами, сиамским девичьим счастьем в Эдемском саду, головой, слепленной из засохшей, годами сцеживаемой крови артиста, именами любовников и рисованным перечнем знаменитостей, зеркалом, в котором приятно увидеть себя вверх ногами (японская девушка из младших чинов Академии тоже всякий раз улыбается вослед посетителю), — чтобы в финале метаморфоз и парциального представительства обрести идеальную точку самообнаружения в средоточии экспозиционных покоев, приняв форму небольшой, обнаженной, с закрытыми глазами лежащей фигуры. Почти вровень с паркетом запрокинулся покойный отец Рона Мьюэка, кукольника и художника, нашедшего для своего старика такую бездну галлюцинаторного реализма (жидкие волосы, раковины ушей, пупок, гениталии, пугающе натуральная дактилоскопия), что невозможно оспорить естественное происхождение этой восковой беззащитной интимности. Это — Отец, со всеми сопутствующими прописной литере смыслами. Он, как было предсказано, умер и отныне заслуживает жалости, сострадания и пощады. Сыновья убили и съели его, вот почему они мучимы чувством вины перед прошлым искусством. И се человек, удостоенный не гибели для воскресения, но необратимых старости, болезни и смерти. Слабое, уязвимое тело, развеянный миф о Субъекте, крушение религии субъективного. Тот самый философический, промеж слов и вещей из тончайшего марева сотканный человек, что должен исчезнуть (ведь и это было предсказано), как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке. Иного человека здесь нет. Его не то чтобы не желают, но не верят в его возвращение. Чье именно?
Среди мощных чучел зверей затерялось «Священное» работы Джейн Симпсон — объект, более прочих выражающий тотальное разуверенье артистов Sensation в возможности другой антропологии и другого искусства. Sacred, алтарь, забрызганный алой краской, этой грубо симулятивною кровью, замещающей кровь художника, но не ту, что лет десять копилась по капле, а ту, которая проливается сразу, без дальних расчетов, путем принесения себя в жертву; во имя чего — в данном случае вопрос некорректный, повод всегда существует и после того, как его отменили. Вот этому жертвоприношению, показывает постсовременный художник, и неважно, какие эмоции — сожаления, сладкого ужаса или злорадства — он испытывает в момент отрицания, этой жертве уже не бывать. Она ликвидирована устранившей свои культовые основания культурой, которая не ждет и не хочет от артиста самоотреченного следования своему художественному призванию, т. е., попросту, без напыщенности говоря, исполнения им профессиональных обязанностей. Понятно, чего боится культура. Ее смущают конкретные примеры и кровью вытекающее из них правило. Ей страшно увидеть новую притчу о Голодаре, который, невзирая на переменчивость публики, со всем буквализмом возьмется воплощать крайние парадоксы эстетической этики, этики искусства как прямого служения и полноценной жизненной практики. Обжегшись на Современном искусстве, она боится возвращения Художника. И зря, потому что это не красный, а вымерший зверь.
В 1969 году Рудольф Шварцкоглер, представитель венской группы акционных художников, публично себя оскопил и умер, обозначив не только финал боди-арта, частного направления визуального творчества, но и завершение телесности как таковой, отказав ей в праве на размножение. Кроме того, он пытался продемонстрировать решимость артиста соответствовать своему ремеслу — так, между делом. В историях искусства XX века его поступок обычно стыдливо обходят, а если упоминают, то неизменно сопровождая текст указанием на помутившийся разум самоубийцы. Легко допускаю, что Шварцкоглер был психически неуравновешен, не мне судить, и совсем уж пошлый обычай — спустя много лет из мелкобуржуазного далека пропагандировать чужое безумие. Но надо, вопреки призывам к отказу от интерпретаций, увидеть и символический смысл этого максимально отклонившегося, не должного быть повторенным деяния: вычеркнув жертвоприношение и жертвенность артиста, или, иными словами, предельную логику художественной ответственности, культура не смогла залечить открывшейся раны, не преодолела невроз и получила то искусство, которое она сегодня имеет. Втайне она его презирает, но справедливо опасается дать дорогу другому обряду, воскрешающему хорошо забытый порядок. Ведь его второе пришествие знаменовало бы поругание постсовременной культуры. Личная жертва, вроде той, что была упомянута, есть экстремистский, отчаянием вызванный, взывающий к неповторению порыв поколебать нестерпимую превратность устоев. Но это и объективный и, согласен, ужасный, как полюс холода, архаический maximum художественного призвания, суть которого в том, что высказывание должно быть оплачено. Самыми разными проявленьями долга. Не обязательно, как Шварцкоглер и Аттис, который тоже себя оскопил и потом еще пел и плясал, ощущая небывалую легкость.
Речь всего лишь о том, что искусство, эффектные образцы которого были представлены на столь громко и международно прозвучавшей Sensation, не отвечает за свои слова, это компания с очень ограниченной ответственностью. Его призывают к разбору и диалогу, а оно отпирается: я совсем не это имело в виду, я вовсе такого не говорило, тут надобно видеть дистанцию, персонажную маску, овцу и акулу, работу с чужим, инородным сознанием, да и можно ли говорить «от себя», если субъект испарился в безличных потоках, можно ли вообще «говорить»? Его спрашивают, что оно думает о профессиональной этике долга в ее отношениях к правилам общественного поведения, а оно машет руками, испуганно отбиваясь от депутаций в защиту меньшинств и животных, заранее, без вины виноватое, соглашаясь с их политкорректными требованиями. Оно готово безопасно рискнуть чужими телами, хранящимися в ледниках скотобоен, но уж точно не поступится собственным — даже не то что телом, а холодильником. Эти бесспорно талантливые люди достойны того, чтобы морская волна смыла их образ с песка. Впрочем, рано ли, поздно ль это произойдет с каждым из нас.


























