Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
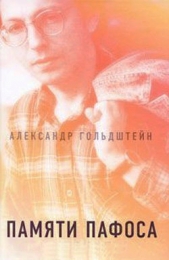
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но Казанову немыслимо мерить аршином XX века. Что за дело ему, сохрани и спаси, до напастей толпы, единодушно убитой ошибкой голкипера. Есть ли толк в увеселяющих зрелищах, если напрочь забылось, что исколотые пальцы монастырски сосредоточенных послушниц труда годами ткали оленей и лебедей для княжеских гобеленов и в не меньшие сроки создавались брабантские кружева, парчовые балдахины, резные шкатулки, атласные платья к радости неисправимо знатных персон, яды, стилеты, статуэтки, гравюры — решительно все, составлявшее цивилизацию ручного усилия, индивидуального чувства и личного навыка. Какой прок в юридическом тождестве классов и свободной торговле, коль благородный артист слова, кисти, резца и поступка стократ против прежнего отставлен от щедрости меценатов, чьи вкусы уродливей, чем у грабительских поколений вестготов. Однако ж, и это пустяк по сравнению с вероятием того, что, где бы ни оказался в исходных главах нашего века Джакомо Джироламо, на обочине ли происшествий или тем паче, как он привык, неподалеку от самого жерла вулкана, его — авантюриста, писателя, астролога, розенкрейцера, переводчика «Илиады» и блуждающего сладострастника с философским камнем во рту — скорее всего, сожрал бы один из майданеков ненавистного ему коллективизма и равенства в смерти.
Бьюсь об заклад, что ему не позволили б тихо скончаться в постели, между картами и интрижкой, на иждивении у служанки, той, например, которая в простоте духа и бдительно надзирая финансы, не осмелилась употребить по хозяйству дорогие, чистые дести писчей бумаги, но сплавила, вослед овощной кожуре и рыбным чешуйкам, три исписанных, с кляксами, тетради его мемуаров. В сверхнасыщенном и перенаселенном XX столетии для его по-дворянски просторных эскапад места, скорее всего, не нашлось бы, и, сознавая чужеродность этой персоны изменившимся временам, век, особенно после того, как выдохся благоволивший к Джакомо декаданс, отнесся к бедному страннику немилосердно. Возобладала трактовка Федерико Феллини: Казанова — протагонист полой души, шарлатан мнимостей и фантомных позывов, фокусник, что не догадывается о Подлинном и вместо красочных лент и ушастой крольчатины тянет из цилиндра неостановимую апологию собственной пустоты. Сотни и тысячи не имеющих экзистенциального центра страниц, разводил руками Феллини, болтливое разлитие соков, чтоб утопить в этих подчас гневных, иногда элегических и насмешливых, но неизменно пустых нечистотах смертельно унизившее его прошлое. Работодатели требуют эротических шоу, а он, не ведая, к чему бы еще себя, кроме подложенных ему бациллоносных межножий, применить и приладить, уподобляется искусственной птичке с заржавленным ключиком крылышкующего подзавода. Рукотворное чудо природы — говорящий секс-механизм, постаревшее личико-маска (впору заплакать и притвориться сморщенной брошенной обезьянкой на веницейском, в испаряющихся отражениях, карнавале), морок и проекция неутолимо-чужого желания, — он похож на планету в орбитах бессменного унижения и, разумеется, сам в страданьях своих виноват, потому что лишен воли, врожденно отторгнут от чувства. В постоянных перемещеньях его разглядели судорогу, оцепенелость, конвульсии и сомнамбулизм. Мертвец с землею в глазницах встает из могилы и под чью-то злорадную дудочку колобродит, обольщает, грешит и тоскливо скребется о гравий, мечтая снова лечь в материнское чрево гроба; сцена из экспрессионистского фильма великой инфляции, дабы не накликать барабаном вуду нынешних, до отвращения замордованных кинозомби. Такова версия позднего XX века, не кажущаяся нам справедливой.
Казанова — зеркальная сущность дореволюционной эпохи, и кто не дегустировал приключений при старом режиме, не способен проникнуться сладостью жизни, нашептывал Талейран. «Грязь в шелковых чулках!» орал, багровея от ярости, на своего демона дипломатии Наполеон Бонапарт, а тот, пятясь на подагрических негибких ногах, пропускал мимо глотки поток оскорблений, ибо глубоко спрятанным историческим зрением провидел и сокрушение повелителя, и свою роль спасителя Франции (Венский конгресс, вершина его кротоподобного тайнодействия, его кулуарного жанра) и собственную лукавую смерть, о коей услышав, один афорист-остроумец интересно спросил: «Вот бы узнать, зачем ему это понадобилось?»
Сладость эпохи до революций бывала горше пилюли, пироги черствели, не доплывая до рта, безденежье и продажность искушали сунуть голову в петлю, и все-таки только этому времени Джакомо Казанова обязан своим совершенством, лишь оно позволило ему стать нарицательным именем, культурным героем. Может быть, главным достоинством той поры была особая оптическая атмосфера, прозрачность воздушных путей и рамочных композиций, благодаря чему он запомнил в лицо каждую из 122 своих женщин — волооких и быстроглазых, аристократок, модисток и подавальщиц, с одинаковой томностью наблюдавших, как трепещет в глубине вечернего зеркала язычок лицемерно плачущей свечки, освещавшей библиотечные полки, сорочку, камзол, астролябию, античный бюст, платье с расшнурованным лифом и теплую телесную беззащитность — их последний, неснятый покров.
Он долго, пока было сил и покуда его не стала обманывать каждая поперечная шлюха, жил за счет этих славных созданий: ставил произношение и манеры, готовил к интенсивному сексу в палаццо, сбывал в кредитоспособные руки и из многих доброкачественных эротических типов предпочитал юных худощавых брюнеток. Откровенная жестокость игры не оставляла простора для разночтений и недомолвок; обе стороны били на уничтожение, яростно нуждались в противоборствующем взаимоупоре и, обоюдно не намереваясь платить, друг друга стоили: «Французские девки, служительницы Венеры, сметливые и обхождению наученные, все такие, как Вальвильша, — без страстей, без темперамента и потому любить не способны. Они умеют угождать и действуют по раз заведенному порядку. Мастерицы своего дела, они с одинаковой легкостью, шутя, заводят и порывают связи. И это не легкомыслие, а жизненный принцип. Если он не наилучший, то, по меньшей мере, самый удобный». За давностью лет и отсутствием счетных устройств итог схватки признан ничейным, но нет ни малейших сомнений, что он, по условиям своего ненадежного бытия крайне далекий от нестяжательства, больше давал, нежели брал. Собственно говоря, это вообще несоизмеримые величины. Ведь он одаривал главным, тем единственным, что не окупается драгоценной чеканкой и не знает ни веса, ни меры, ни червонно мерцающего эквивалента: женщин он оставлял безутешными. Он предлагал им не обноски своего тела, не больной и потасканный, после паховой неприятности, эрос и, разумеется, не клейкое наважденье любви — кто бы поверил в нее, глядючи в эти глаза, где стилистическая несовместимость отчаянья и тщеславия покрылась бесслезною поволокой беды? Нет, они от него получали иное, бесценное — воображение и ритуал.
С первым все ясно: златоуст и писатель, Казанова раскрывал перед ними феерические субтропики имагинаций, и даже опытная девичья жизнь зачинала мечтать, чтобы ее вовлекли в словеса, сплетенные обольстителем и работорговцем. Второй пункт требует краткого разъяснения. Согласно Мишелю Фуко, традиционного распутника и соблазнителя, коего символом был и по сей день остался Джакомо Джироламо, отличают прочнейшие связи меж сферой поступков и порядком интеллектуального представления, вследствие чего каждому движению тела соответствует неуклонно соблюдаемая фигура рассудка. По-другому сказать, классический соблазнитель есть человек знания, правила и обряда; не потому, что он действует по науке, но оттого, что факт победы над женщиной значим для него гораздо менее ритуала ее обольщения. Классический распутник есть жрец церемонии, лишь этому танцу, геометрии и Закону он служит всей полнотою отпущенных ему потенций соблазна. Соблазнитель, таким образом, заключает в себе Хаммурапи, глиняные таблички своего добровольного (из-под глыб) принуждения к ритуалу. Он раб и смиренный послушник этих обрядов, и он же их господин, который, подчинившись объективному, даже сверхчеловеческому порядку, преображает его согласно своим частным, человечным потребностям. Он адепт не обольщения, но идеологии и поэтики обольщения, избранной им от избытка свободы и силы, а значит, его закабаление абсолютно, и он действительно не хочет, не умеет жить без него. По идее (удачное слово; чем еще, если не платоновской идеей уловления жертвы, охвачен его мозг), он мог бы обойтись и без женщин: разве не ясно, что ему довольно воображения и той чистоты комбинаций, которая возможна только при математическом и литературном отвлеченьях от плоти. «Дневником соблазнителя» (одна из частей «Или — Или») Киркегор показал, что последовательная тактика обольщения растворяется в речи, что она тождественна письменным правилам как таковым, например эпистолярным фигурам. Соблазн есть риторика, обретающая ненасытимость в акте удаления от натурально-телесного — в сторону психосоматики текста. Настоящий, литературный соблазн, а Казанова давно уже сугубо литературен, — это область письменных желаний, желаний, свойственных самому письму, его безличному самопорождению, не требующему, чтобы обольститель умакал перо в чернильницу и корябал ручкой бумагу, оную посыпая песком и пеплом. Но поскольку ему все же приходится работать с реальными женщинами, он, относящийся к ним как художник к своему материалу, стремится, чтобы они — стертые, безымянные, не имеющие внятной индивидуальности — обретали ее в одухотворяющем каноне всеобщности, что открывается в ниспосланном им и ему ритуале. Становясь соучастницами вечного возвращения церемониальных фигур, облекаемых в литературные образы, они получают в награду персональную жизнь, личную душу и даже, не убоимся преувеличений, бессмертие: кто бы их помнил без этих страниц, вне этой риторики расточительства, бескорыстно одаривающей соблазном?


























