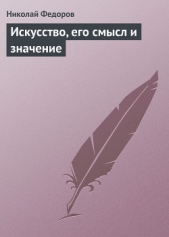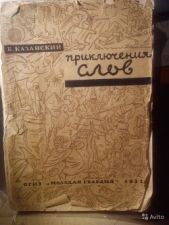О сколько нам открытий чудных..

О сколько нам открытий чудных.. читать книгу онлайн
В книге представлены некоторые доклады, зачитанные автором или предназначавшиеся для зачитывания на заседаниях Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых. Доклады посвящены сооткрытию с создателем произведений искусства их художественного смысла, т. е. синтезирующему анализу элементов этих произведений, в пределе сходящемуся к единственной идее каждого из произведений в их целом.
Рассчитана на специалистов, а также на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А Шкловский через 60 лет в журнале его подкалывал:
<<…анализ не шел. Он заключался в вычеркивании старых определений, а не в попытках понять, что именно «воспринимается нами сразу»>> [4, 221].
Другой вызов мне относительно этого стихотворения был общего характера: «Вы что: считаете себя понявшим все в Пушкине?!» — «Я вас любил…» давно сидело во мне занозой, и я не мог о нем не вспомнить. Да и вообще Пушкина не исчерпать. А в то же время я таки спровоцировал ехидный вопрос, бегло, но не общо, коснувшись траектории изменения идеалов Пушкина, траектории, простершейся вдоль всей его жизни. Всей. Траектория же — это так определенно и уже`, — если меня послушать, — готово. Ищи на временно`й оси место, соответствующее дате создания произведения; восстанавливай от этой точки перпендикуляр; и на месте пересечения перпендикуляра с Синусоидой идеалов получай готовый ответ: что тогда хотел выразить Пушкин, когда брался за перо и писал не письма.
Третий вызов я прочел в недавно читанной старой книге Н. А. Рудякова «Стилистический анализ художественного произведения» 1977 года издания. Автор в ней дал конкретный метод открытия художественного смысла литературных произведений вообще, и одним из примеров было «Я вас любил…», единственный в его книге пример из Пушкина.
Призна`юсь. Увидев с самого начала этой работы, что Рудяков не последователь Выготского, я сразу полистал книгу: не брался ли он интерпретировать Пушкина. Пушкина я особенно хорошо знаю, и есть шанс легко Рудякова разбить (а как же иначе, раз не пользует он Выготского). Разбить и лишний раз убедиться, что с Пушкиным у меня все получается (синтез получается): достаточно только найти того аналитика, кто показал бы мне элементы (я сам чаще всего элементы выявить не могу). Подскажут мне элементы — получится синтез.
Ну, а не получится — я никому не скажу.
Перед цитированием Рудякова об этом шедевре Пушкина я объясню его терминологию.
Соотносительная единица — это та часть текста, которая как бы повторяется в произведении.
Экспозиция — это часть произведения, содержащая обычно понимаемую соотносительную единицу. Их, единиц, может быть тут и много.
Семантическая трансформация — то, что происходит с семантической единицей под оригинальнейшим влиянием автора в другой части произведения, не в экспозиции. То, ради чего произведение и создано. Его идея.
Основная часть — часть произведения, содержащая семантически трансформированную соотносительную единицу.
Итак:
<<В этом стихотворении соотносительными единицами служат формы повелительного наклонения. Выступающая в экспозиции и имеющая значение пожелания форма «Но пусть она вас больше не тревожит…», соотносится со словосочетанием «…так… как дай вам Бог любимой быть другим», которое тоже является формой повелительного наклонения, имеющей значение пожелания, но семантически осложненной, поскольку она выступает здесь в составе сравнительного оборота «так… как». В этом семантическом осложнении [ «осложнение» — синоним упомянутой «семантической трансформации»] заключена та изюминка смысла, которая составляет идею стихотворения — поэт говорит о наступлении невозможного, «его любовь не может быть заменена другой, она выше всего, что случится с женщиной» (Шкловский В. «Поэзия грамматики и грамматика поэзии». — «Иностранная литература», 1969, № 6. С. 222). Таким путем здесь отрицается то, что в экспозиции выражено буквальными значениями языковых единиц: «Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем»>> [2, 102]. Отрицается!
По Рудякову получается (и он это не сознает, как ни удивительно!), что идея этого произведения в злом пожелании печали и тревоги женщине, предмету своей прошлой любви, осозна`ющей после получения данного обращения, какой любви она лишилась в лице обратившегося теперь.
Зная меня как фаната идей Вготского, вы уже понимаете, что меня факт противоречия одного элемента произведения другому не смущает, а воодушевляет, как предвестие того озарения меня, читателя, какое в чем–то идентично когдатошнему воодушевлению Пушкина, приведшему его к созданию данного шедевра.
Мог ли Шкловский представить, до какого абсурда доведет кого–то его, Шкловского, наблюдение над одним из противоречий этого стихотворения!? — Не мог.
Ведь пафос статьи Шкловского, написанной против статьи Якобсона, состоит в том, чтоб продемонстрировать всю узость Якобсона, пытающегося свести до <<даже единственного носителя сокровенной символики>> [4, 218] поэзии вообще и пушкинской в частности — не поверите, что — морфологию и синтаксис текста.
А Рудяков, ничтоже сумняшеся, художественный смысл сводит к семантическому сдвигу в повторившейся языковой единице. — Похожая узость.
Только Якобсон относительно, в частности, стихотворения «Я вас любил…» выдал, что называется «гора родила мышь». Какую–то туфту, непонятную за обильной лингвистической терминологией (что и отметил Шкловский). А Рудяков вообще дошел до абсурда.
И все–таки Шкловский мог бы отвратить Рудякова от беды, если б не обиняками, а прямо сказал, в чем художественный смысл этого стихотворения. (Увы, это считается дурным тоном — напрямую писать о художественном смысле.)
Намек Шкловского замаскирован в демонстрацию, — в пику Якобсону, — того, что вот, мол, и в этом безо`бразном стихотворении есть (чего никто не видит) сугубо поэтическое средство выразительности — троп:
<<Среди многочисленных тропов в старых поэтиках и риториках существовало понятие «литота» — умаление. Стихотворение в целом — развернутая литота.
Лирический герой — автор, «я» — говорит о себе сдержанно; он сдерживается всеми способами, он преуменьшает свое горе.
Он как бы не говорит, а проговаривается…
Литота… не цель для создания произведения — это один из способов непрямого выражения, но термин здесь подчеркивает обобщение, повторяемость приема. Автор сдерживает себя. Все строки построены как сдержанный разговор о главном, «Я» много раз повторяет сам себя. Повторения разбиты на строфы и заключены упреком>> [4, 223].
Скрытую трагедию, — пусть и не нарекая ее художественным смыслом этой вещи, — представил нам Шкловский.
Но какая жалость — еще и другое. Литота–то в конце противопоставлена не упреку, а гиперболе — преувеличению: <<Лирический герой считает, что его любовь… выше всего, что может случиться с женщиной>> [4, 222]. Это слова того же Шкловского. Но он не замечает очередного столкновения противоречий и прибегает даже к нечеткости: сравнивает не гиперболу с литотой (одно художественное средство с другим), а упрек с литотой (поступок с художественным средством).
Выготский относительно одного разбираемого им трагического произведения в темных выражениях свел катарсис от него к легкому дыханию читателя этой вещи. Вот что–то похожее можно сказать и о дыхании при чтении этого стихотворения — «Я вас любил…» — облегчение какое–то, что ли…
И мне кажется, что гораздо более прав Фомичев:
<<Отдавший в молодости щедрую дань традиционным элегическим темам, Пушкин создает теперь своеобразный жанр антиэлегии, когда обращение к пережитым впечатлениям является не поводом для унылых медитаций… но тем родником, который питает надежду на счастье. В воспоминаниях этих звучит не эхо юношеских дерзаний, а особая благодарность жизни, слитая с грустью утрат, — неповторимая «светлая печаль» Пушкина>> [3, 185].
Такими словами он предваряет свой анализ стихотворения «Я вас любил…» И эти слова есть готовый катарсис от разбираемого стихотворения, есть его (и подобных вещей того времени) уже найденный художественный смысл. И сквозь именно такие слова просвечивает тогдашний пушкинский идеал Дома и Семьи [1, 139].
Но чтоб это акцентировать, как тут сделал я, нужно, выходит, быть вооруженным методом Синусоиды идеалов (раз) и методом Выготского (два). Потому что без них даже самые блестящие умы — Шкловский и Фомичев — скатываются в анализе в ошибки.