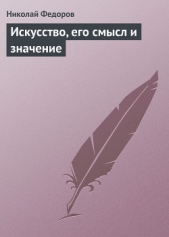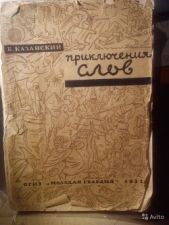О сколько нам открытий чудных..

О сколько нам открытий чудных.. читать книгу онлайн
В книге представлены некоторые доклады, зачитанные автором или предназначавшиеся для зачитывания на заседаниях Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых. Доклады посвящены сооткрытию с создателем произведений искусства их художественного смысла, т. е. синтезирующему анализу элементов этих произведений, в пределе сходящемуся к единственной идее каждого из произведений в их целом.
Рассчитана на специалистов, а также на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но метод Рудякова оказался совсем не методом Выготского. <<Согласно методике Н. А. Рудякова… нужно определить композицию лирического произведения, то есть: 1) его экспозицию, содержащую информацию о факте объективной действительности, послужившей поводом для создания произведения; 2) основную часть, заключающую в себе отношение автора к этому факту. Далее необходимо соотнести языковые средства экспозиции и основной части… [для] определения семантического сдвига в [этих языковых средствах. А в] семантическом сдвиге находит выражение новизна авторского отношения…>> [2, 99]
И Малько демонстрирует этот метод на вот таком стихотворении Бродского:
Сначала Малько демонстрирует <<невооруженным глазом>> обнаруживаемое.
Первые части каждого четверостишия <<лишены значения одушевленного субъекта действия, словно внешний по отношению к автору мир пуст и безлюден… Вещность — единственная реалия окружающей действительности>> [2, 100].
Во вторых частях, обособленных скобками, <<читатель узнает, что в прошлом мир представлялся автору иным: в нем было нечто такое, что составляло смысл существования героя; и пока оно было — вернее, она была, — автор ощущал полноту жизни, рассматривая саму жизнь в виде непрерывного неопределенно растянутого во времени процесса: «Я знал (прош. вр.), что я существую (наст. вр.)…» Жизнь, наполненная смыслом обещала быть долгой и счастливой, но оказалась опустошенной и безликой, лишившись этого смысла…>> [2, 100]
Что ж предлагает Малько вооружившись методом Рудякова?
<<Весь текст, за исключением двух последних строк, считать экспозицией, в которой передан факт объективной действительности — информация о том, как поэт ощущает жизнь [2, 100]. И, надо думать, теперь «сад» — благотворный, так как «не выдает вас зною»; «площадь», «фонтан с рябою нимфою», «скат кровель» — интересно экзотичны, увиденные в характерном, как «в профиль», ракурсе; изгнание из рая — «Райские кущи с адом голосов за спиною» — интересно драматично; «Ночь с багровой луною, как сургуч на конверте» — интересно эстетична. Все хорошо. Так я понимаю намек Малько. Потому намек, что основную часть он подает как бы позитивно результирующей:
<<Основная часть… состоит из 2-ух последних строк; в них поэт говорит о том, что его жажда жизни была столь велика, что он не боялся умереть>> [2, 100].
Разделил Малько на экспозицию и основную часть [2, 100] и теперь предлагает соотнести ключевые синтаксические единицы -
| (Я знал, что я существую, | экспозиция |
| пока ты была со мною | |
| Пока ты была со мною, | основная часть |
| я не боялся смерти.) |
по семантическому сдвигу подчеркнутого. И что получается, мол?
<<…в последней строке отрицается то, что выражено суммой буквальных значений слов, ее составляющих. В действительности поэт боялся смерти, т. к. знал, что существует до тех пор, пока действует очень важное для него условие>> [2, 100].
<<…возникает в художественном тексте скрытая от поверхностного чтения информация — тот образный смысл, ради выражения которого и создано произведение. На самом деле жизнь поэта никогда не была радостной, так как она была наполнена предчувствием и ожиданием смерти>> [2, 100].
И вот теперь я начну спорить, как мне ни приятна агрессивность Малько к остальной массе интерпретаторов.
И начну с того нюанса, о котором Малько умолчал (его статья побольше моего ее изложения, но поверьте — умолчал).
Не обсудил он вопросительное предложение:
Кто, действительно?
По–моему больше некому, кроме Дьявола. Ад криков производит свита Бога, изгоняющего согрешивших из райских кущей. Они — «за спиною». И вряд ли не с ними и сам Бог.
Ну не думать же, что «все время» это время процесса изгнания и упоминается оно лишь для того, чтоб «рядом» мы представляли себе гонителя.
А с Дьяволом таки интересно — для людей экстремистских. А без него — скучно.
И я вспомнил «Сцену из «Фауста»” Пушкина.
Фаусту там и с Мефистофелем скучно. И не только в начале. Но и в конце. Лишь в середине Фауст попробовал было развлечься воспоминанием о Гретхен. Да Мефистофель не дал ему самообмануться.
Да, он разозлился, Фауст, что Мефистофель его заземлил. Но он не со злости на дьявола, — а в сущности — на людей, естественно склонных привлекать дьявола, — не со злости велел он этому отродью потопить испанское судно с людьми все–таки. Как те ни уже виноваты, понимай, в ограблении колоний, как те ни стали бы виноватыми в завозе в Европу новой болезни, — все это Фауста не касается. Ни их жизнь, ни их смерть (его ничто не касается, ему скучно). Отослал он Мефистофеля чисто технологически: от того нельзя отделаться, не задав ему злого дела.
И не для того он отослал, чтоб беспрепятственно заниматься самообманами. Они тоже, действительно, скучны по большому счету.
А отослал его Фауст — по большому счету. Навсегда. Мефистофель ему больше не нужен. Экстремизм больше не идеал его, Фауста. Фауст остался вообще без идеала. Без ничего. Без никого, если идеал можно представлять персонифицированным.
Драматическая сцена, — с ее четким разделением на говорящих друг с другом, и больше ничего, кроме ремарок, не содержащая, — в сущности развоплощается в монолог осознавания утраты идеала. — Автором? — Нет. Героем. Автор потому и выбрал драматическую форму повествования об этой утрате, чтоб возвыситься над ней.
Может, Пушкин потому и пошел на драматическую форму, что его не удовлетворила лирическая форма предыдущего его сочинения:
Комментарий относит это стихотворение к Воронцовой. А вы, большинство, помните, что было перед концом в моей книге «Пушкин: идеалы и любови». Воронцова в числе других демониц–изменниц нужна была Пушкину как противовес его экстремистским продекабристским залетам в виду поражений этих идей в Европе и слез девы воспаленной, Анны Гирей, выданной замуж за нелюбимого [1, 63–64]. От столкновения таких запредельностей родился пушкинский реализм, трезвость и некоторая отстраненность от р–р–романтических страстей, как страстей гражданского, так и эгоистического, байроновского романтизма.