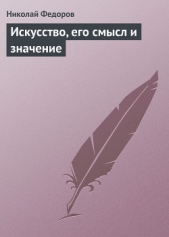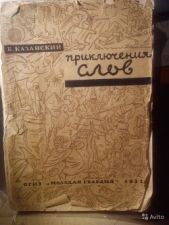О сколько нам открытий чудных..

О сколько нам открытий чудных.. читать книгу онлайн
В книге представлены некоторые доклады, зачитанные автором или предназначавшиеся для зачитывания на заседаниях Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых. Доклады посвящены сооткрытию с создателем произведений искусства их художественного смысла, т. е. синтезирующему анализу элементов этих произведений, в пределе сходящемуся к единственной идее каждого из произведений в их целом.
Рассчитана на специалистов, а также на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(В последнем все же он отличается от своего героя, которому он придал наследственную материальную обеспеченность и отказ от создания уже брезжившей в его уме новой школы в математике.)
Но в общем, Ульрих оказался рупором авторского идеала. А идеалом этим, — если одним словом, — стала некая нирвана для себя. Это почти впрямую заявлено в последних строках романа (из чего я заключаю, что Музиль, — проживи он дольше, — в таком же роде роман бы и закончил).
«Конечно, ему [Ульриху] было ясно, что оба типа человеческого бытия [западного, европейского, фаустовского — с одной стороны — и восточно–нефаустовского, созерцательного — с другой, как это следует из предыдущих цитируемому абзацев]… оба типа человеческого бытия, поставленные тут на карту, не могли означать ничего другого, как человека «без свойств» — в противоположность наделенному всеми свойствами, какие только может предъявить человек. Одного из них можно было назвать нигилистом, мечтающим о мечтах бога, — в противоположность активисту, который, однако, при своей нетерпеливой манере действовать, тоже в каком–то роде богомечтатель, а никак не реалист с ясным и дельным взглядом на мир. «Почему же мы не реалисты?» — спросил себя Ульрих. Они оба [он и Агата] не были реалистами, ни он, ни она, в этом их мысли и действия давно уже не оставляли сомнений: но нигилистами и активистами они были, и порою одним, порою другим, как уж складывалось».
Посмею тут поспорить с Музилем ради, как мне кажется, большей четкости того, что он сделал своим романом.
По Музилю, — если в лоб, — получается, что Ульрих (и такие, как он: например, Агата) есть человек без свойств потому, что он — то активист–ниспровергатель обычного, то созерцатель–нигилист, мысленный ниспровергатель обычного. Порою один, порою другой. То есть никакой.
Но по фабуле–то он сначала один, потом другой. И на том кончается. На другом. Конец–то весомее начала. Он — достигнутая цель. А достижение — нирвана, некое ничто. Вот потому–то и достигший, и стремившийся в это отрицание действительности и есть человек с соответствующими этому «ничто» качествами: человек без качеств.
Впрочем, это — отвлечение от мысли о главном герое как рупоре идеала автора, отрицающего действительность.
Вернемся к рупору и отрицанию действительности. Такое обстоятельство не могло не потребовать от создателя литературного произведения некоего акцента на литературности в пику жизнеподобию.
Образцом, может, и непревзойденным, разрушения литератуности является, — по Лотману, — пушкинский «Евгений Онегин». Так зато Пушкин вовсе и не отрицал действительности, когда (в середине 20‑х) разворачивал этот роман в стихах. Это у него был окончательный перелом, полный отказ от продекабристского коллективистского неприятия монархической и крепостнической российской (и вообще европейской реакционной) действительности. Нечего плевать против ветра, — как бы говорил Пушкин, прислушиваясь к естественности, к здравому смыслу якобы пошлого большинства.
А Музилю была противна и подобная естественность, и все обратившиеся против той противоестественности. За исключением противоестественности созерцательной.
Так, благодаря Лотману и Пушкину, я понял все, что не похоже на жизнь, всю нарочитую литературность Музиля.
Смотрите.
Ну мыслимо ли, чтоб хулиганистый мальчишка, Ульрих, — плавно превратившийся в хулиганистого кавалериста, — разочаровавшись в армии, не позволяющей ему безобразить вволю, стал довольно преуспевающим инженером, а потом математиком, последняя, так и не опубликованная работа которого позволяла ему сказать о себе, «что я, вероятно, не без основания мог бы считать себя главой новой школы»? — Как говорится, только в кино такое может быть. Или: мало ли, что можно в книжке намолоть…
Но Музилю нужно было, чтоб Ульрих, разочаровавшись в возможностях аморальной активности, на пути к нигилистической созерцательности и индивидуалистической нирване прошел бы какую–то промежуточную выучку в областях, удаленных от вопросов моральности–аморальности. И — Музиль, ничтоже сумняшеся, провел своего героя через эти ступени. Ретроспективно. В воспоминаниях. И очень общо. Так, что неинженеры и нематематики, пожалуй, и не заметят вопиющей неестественности внешней стороны такой биографии героя.
А если кто заметит? — Музиля, похоже, устраивает, что заметившие эту накладку поймут внутреннюю необходимость ее. Ведь такие развитые читатели не осудят литературность как таковую.
То же — с понятливостью в отношении абстракций невежественной, — по ее беспощадной самооценке, — Агаты. Музилю ж нужно, чтоб недопустимая обществом (да пока и Агатой с Ульрихом) полноценная половая любовь этой пары выражала себя в бесконечных разговорах и не больше. Вот Музиль и сделал необразованную Агату интеллектуалкой.
Впрочем, интеллектуальны в этом интеллектуальном романе все герои (кроме слуги Арнгейма и служанки Диотимы — для создания, видно, точки отсчета). Итак, интеллектуальны все, чего в жизни, конечно, не бывает. Но Музилю и это нужно. Он же их всех не переносит. Или за пошлое довольство, или за не менее пошлый индивидуалистический бунт от пресыщения тем довольством. Художнику же своих героев надо любить. Что делать? Вот Музиль и отыгрывается — хотя бы наделением их интеллектуальностью. Кроме того ему ж нужно, — объективистски хотя бы, — показать, как трудно люди меняют идеалы в преддверии кризиса.
Вот и соответствующие затрудненные и удлиненные предложения, как уже говорилось, Музилю нужны. А это ж тоже — литературность.
Или, скажем, тот факт, что все герои у него говорят как бы одним голосом, не отличимым от авторского… Даже глупый генерал говорит так, как это делал бы умнейший автор, неумело притворяясь дураком. Смотрите:
«— Там есть один марксист, — объяснил Штумм, — утверждающий, так сказать, что экономический базис человека целиком и полностью определяет его идеологическую надстройку. А ему возражает психоаналитик, утверждая, что идеологическая надстройка — это целиком и полностью продукт базиса, который составляют инстинкты».
Переврано (генерал не шутит) огрублением: «…целиком и полностью…» Но как кратко резюмировано! Дурак, по–моему, так бы не смог.
Откуда такая одноголосость? — От объективизма, от субъективности, притворяющейся объективной. От того, что автор изначально знает, против чего он и за что. Против — всего, что не его. А что его — лишь ему по плечу и редко кому другому. Он — как бог по отношению ко всем. И все ему нужны лишь для опровержения и тем большего самоутверждения. И больше ни для чего! Ему с самим собой хорошо. Автор — утопист. С утопией трудно, но достижимой.
Вот Пушкин в конце 20‑х тоже повернул от достижимого, лично–семейного идеала к утопизму, к широкому консенсусу в сословном обществе. Так это был, — по Синусоиде изменения идеалов, — поворот с нижнего поворота: вверх, к коллективизму. Пушкину нужны были голоса всех сословий российского общества. И — мы их слышим в «Повестях Белкина».
Утописту Музилю, беглецу из общества, с идеалом индивидуалистическим, на нижнем вылете субвниз с Синусоиды на ее опять нижнем повороте, чужие голоса не нужны. Вот их и нет в романе.
Такое, второе, сравнение с Пушкиным еще раз утвердило меня во мнении относительно Музиля. А так же подтвердило плодотворность типологического сравнения художников, поскольку история изменения идеалов в чем–то всегда одна и та же.
Однако только подтверждения и без того неоднократно проверенного мною метода мне было б мало, чтоб заняться Музилем. Музиль, — при всей затрудненности чтения его прозы, при всей незанимательности сюжета его романа, при всем неизбежном читательском недопонимании многих его мест, — настолько убедителен в картинках психологических нюансов и особых психических состояний, что ему веришь. И тогда оказывается возможным усовершенствовать мою схему исторического развития идеалов и их ветвлений на варианты в кризисные эпохи в зависимости от личной твердости или приспособляемости художника к переменам в мире..