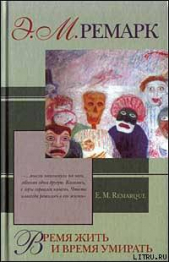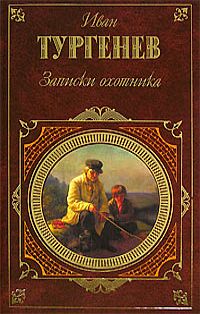В родном краю

В родном краю читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Есть уважение к книгам, знанию, опыту жизни в большом мире, но нет зависти. Что с того, что больные не соглашаются на операцию на сердце, — а кому ее хочется себе делать? Да тут еще областные светила объяснят, что делать ничего не надо. Каждый такой случай воспринимается как врачебная неудача, неэффективное действие, провал. Поэтому и приходится вешать дипломы на стенку, а главное — стараться, напрягаться, отдаваться разговору и вообще встрече с человеком.
Радует если еще не жажда, то уже готовность к деятельности у людей, которых, недавно казалось, остается только закопать. Еще — ощущение герметичности происходящего (все попадают в одну больницу): становится известно продолжение любой истории, что добавляет ответственности.
Есть радость встречи: недавно лечил худенькую, веселенькую девяностолетнюю Александру Ивановну (отец-священник погиб в лагере, мать умерла от голода, осталась без образования, была воспитательницей в детском саду), человека, более близкого к святости, я не встречал. Говорю ей: у вас опасная болезнь (инфаркт миокарда), придется остаться в больнице. Она весело: птичий грипп, что ли?
На днях получил привет от своего прадеда, умершего вскоре после моего рождения: обратил внимание на красивое и редкое имя больной — Руфь. “Руфь-чужестранка”, — сказал я ей, и она ответила: “Только один врач отметил мое имя и очень меня за него полюбил, я и дома у него бывала”. Этот врач — мой прадед, после лагеря он жил на 101-м километре, до смерти — в городе N. Теперь на 101-й километр не посылают, надо об этом побеспокоиться самому.
Еще, конечно, нравится ощущение своего города, нравится, когда раскланиваются на улице. Молодец среди овец? Пусть, это лучше, чем овца среди овец. Тем более что скоро появится еще молодец, а там, глядишь, и еще.
Из сказанного ясно, что я счастлив работать в городе N.
апрель 2006 г.
* * *
Прошел еще один год моей провинциальной жизни, многое изменилось, в большой мере — из-за обещанного выше молодца, моего молодого друга и коллеги. Вдвоем мы так ловко справляемся, что больных стало не хватать. Смертность в больнице уменьшилась вдвое. Возможностей помочь становится все больше, свободу никто не ограничивает, грех жаловаться. Анонимный олигарх подарил нам чудесный аппарат. Работа становится врачебнее, ближе к идеалу, хотя еще очень далека от него, исчезает сентиментальность (когда тебе навязывают роль благодетеля и вообще хорошего человека). Если бы этого не случилось, то пришлось бы рассматривать город N. как последнее пристанище доктора Живаго, как уступку энтропии. (Не всякий, кто Москву оставил, — Кутузов.) С другой стороны, первичная радость встречи (с людьми, с городом) прошла, приветов от прадеда больше не поступало, взгляд на окружающее стал более трезвым, а оттого — мрачным. Из-за попыток экспансии на соседние с N. районы все чаще приходится видеть начальство — районное, областное, московское. Это, как говорит коллега, “не добавляет”. В отличие от зла, всегда образующего положительную обратную связь (страх — удушье — еще больший страх — еще большее удушье), осмысленная деятельность сопровождается все возрастающими трудностями.
Медицинская помощь на Руси, как и прежде, очень доступна, но не очень действенна: “Верите ли, — сказал доктор ни громким, ни тихим голосом… что я никогда из корысти не лечу… Конечно, я бы приставил ваш нос, но это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его”. Так примерно лечат и теперь: за пять лет в России меняется многое, за двести — ничего. Врачи и больные по-прежнему отлично подходят друг другу. И вдруг появляемся мы, и пошло-поехало: один принимает много варфарина1 , не делая анализов, просто когда плохо себя чувствует, — у него тяжелое кровотечение, другой после протезирования клапана бросает принимать варфарин — у него тромбоэмболия бедренной артерии (можно сказать, повезло). Причина в обоих случаях — алкоголизм и мужской идиотизм. Мужской идиотизм, в частности, проявляется так: подавляющее большинство мужчин в ответ на вопрос “На что жалуетесь?” отвечают с раздражением: “Да вот, послали к кардиологу”.
Главная проблема нашей медицины — отсутствие лечащего врача. Больной слушает (если вообще слушает) последнего, к кому попадет. В больнице назначили одно, в поликлинике другое, в областной больнице третье, а в Москве сказали, что надо делать операцию. Кого слушать? Того, кто понравился, кто лучше утешил, кто взял больше денег? Или того, у кого громче звание? Как может профессор (академик, главный специалист, заслуженный врач) говорить глупости? (“Если Бога нет, то какой же я после того капитан?” — это из “Бесов”.) Врач тоже не понимает, в какой роли находится: то ли он что-то решает, то ли так, должен высказать мнение. В теории лечащий врач — участковый, но он служит в основном для выписывания рецептов и больничных листов, часто пьет и презирает свою работу и себя2 . Участковый врач давно отвык принимать решения (“да” и “нет” не говорите, черный-белый не берите) и обращается с больным так: “Сердце болит при быстрой ходьбе? А куда вам торопиться?” Как ни странно, такой ответ устраивает.
Не хватает не больниц, не лекарств — нет линии поведения, нет единой системы апеллирования к источникам научного знания, нет системы доказательств и нет потребности в этой системе. Конечно, кое-кому удается помочь, каждый раз как бы случайно. Важно ведь именно превращение искусства в ремесло — в этом и состоит прогресс. А так — да мало ли что вообще в стране делают? Вот легкие недавно в Петербурге женщине пересадили — можно ли сказать, что у нас делается пересадка легких? Сколько человеку жить, надо ли бороться с болезнью всеми известными науке способами, решает не сам человек, а начальство (например, официальное противопоказание к вызову нейрохирургической бригады — возраст старше семидесяти лет), потом все кричат: “Куда только смотрит государство!” А государство — это милиционеры, что они понимают в медицине? Они и не могут иначе измерить ее, как числом амбулаторных посещений, продолжительностью госпитализации, количеством “высокотехнологичных” исследований и т. п. В общем, до революции в Тульской области был один писатель, теперь — три тысячи.
Отсутствие людей, способных выдерживать линию — в лечении больных, в разговоре, в самообучении, — заметно не только в районном городе, но и в областном, и в Москве. Недавно мы с коллегой были в двух главных областных больницах, одна — победнее — нам скорее понравилась (врачи тяжело работают, читают медицинские книги — к сожалению, только по-русски), другая же не понравилась совсем. Обе больницы, кстати, Juden frei, что лечебным учреждениям совсем не идет (гибель отечественной медицины так и начиналась — с дела врачей; массовая эмиграция, уход активных людей в западные фирмы — это все уже было потом). Доктор Люба, красотка с длиннющими ногтями (“Мы — клинические кардиологи”, то есть делать ничего не умеем), ждет, что ее через год станут учить катетерной деструкции аритмий. Все это результат применения сталинского тезиса “Незаменимых у нас нет”. (Я — министру, по возможности кротко: “А у нас есть”.) Если уж непременно надо сталинское, взяли бы лучше “Кадры решают все”. Как я не научусь играть “Мефисто-вальс”, купи мне хоть новенький “Стенвей”, так и Люба не справится с аритмиями, даже когда спилит ногти. Начальству этого не понять: научим, в Москву пошлем, если надо — в Европу, в Америку. Не выйдет, на льдинах лавр не расцветет, никто в Америке не станет учить русский язык, чтобы потом рассказать Любе про аритмии (она английский “проходила в институте”). Потом мы ехали по пустой заснеженной дороге, было щемяще красиво, коллега немножко рассказывал из генетики, точнее — молекулярной биологии, а я смотрел по сторонам и думал: какие именно бедствия нас ждут? Какие бедствия ждут красивую пьяную женщину, без дела стоящую на перекрестке? Трудно сказать, какие-то — ждут. Может она образумиться, протрезветь и вернуться к детям или встретить хорошего человека?