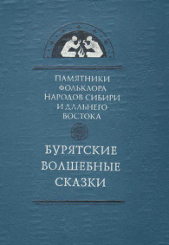Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
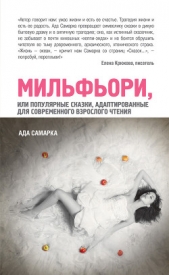
Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения читать книгу онлайн
«Сказка – быль, да в ней намек», – гласит народная пословица. Героиня блистательного дебютного романа Ады Самарки волею судьбы превращается в «больничную Шахерезаду»: день за днем, ночь за ночью она в палате реанимации, не зная усталости, рассказывает своему любимому супругу сказки, для каждой придумывая новый оттенок смысла и чувства.
И кажется, если Колобок спасется от Лисы, если Белоснежка проснется от поцелуя прекрасного принца, однажды и любимый человек выйдет из комы, снова станет жить полноценной жизнью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все, кроме Насти, ушли, и до полуночи не утихали тяжелые неторопливые звуки грустной суеты из второй квартиры: тяжело, как больная животина, елозила мебель, что-то куда-то нехотя и сонно распихивали, переставляли. Несколько раз обиженно, со злостью, плакал младенец, хрюкал, захлебывался. А глава семейства, испытывая оправданный стресс, уединился на балконе, там было хорошо, прохладно, легкий ветерок трепал по щекам, обдавая терпким древесным запахом цветущей бузины. Он вытянул ноги, закинул руки за голову и смотрел на открытое со всех сторон небо, висящее прямо над ним, начинающееся сразу над балконной дверью, улетающее в такие доступные, такие приветливые вечность и бесконечность. Рядом стояла початая чекушка и белела пачка сигарет, и тут же, на расстоянии вытянутой руки, молчаливой компанией нависали звезды, души наших предков – Орион, Большая Медведица и другие, чьих названий он не помнил.
У Валентины весь день после ухода коллекторов тянуло спину и прихватывало низ живота. И это была желанная боль: прикладываясь к трехстворчатому фанерному шкафу, толкая пианино, она в некоторой степени провоцировала эту боль, играла с ней, ведя определенный диалог с судьбой, вызывала эту судьбу на разговор по душам. «Видишь, как мне тяжело, видишь, что мне приходится делать», – думала Валентина, отдуваясь, приподнимая за край дико тяжелые кровати, щедро, не щадя себя, от души наваливаясь на допотопные лакированные трюмо и комод. За приоткрытой балконной дверью краснел огонек сигареты ее мужа.
«Сидит. Прохлаждается…» – почти вслух подумала Валентина, превозмогая боль, поглубже вздыхая и хищно облизываясь, переводя дыхание, занимая удобную позицию для толкания шкафа.
– Давай еще чуть-чуть, Витек, – улыбаясь, с азартом, сказала сыну. – Еще чуть его подвинем, гада этого тяжелого.
От усталости немного кружилась голова, и эта муторная, невнятная склизкая болотистая беременная тошнота, несмотря на срок, все еще периодически давала знать о себе – поднималась, выкатывалась вязкими пузырями. В такие моменты одновременно сосало под ложечкой, а ноги становились полыми, кончики пальцев растворялись в воздухе, голова делалась легкой, дурной и беспомощной, реальность распадалась на мелкие черные точечки, которые сгущались в роящуюся рамку по периметру расфокусированной картины зрения.
– Фух, – выдохнула Валентина, тяжело прислоняясь к оголившимся старым розовым обоям в том месте, куда вместо одного шкафа теперь станут целых два. Она запрокинула голову, пытаясь смыть таким образом черные мошки, вылить звон из ушей, тыльной стороной запястья вытерла глаза. – Фух! Господи, как я устала.
И тут ей стало однозначно легче. Так приходит второе дыхание. Так чувствуешь себя, когда жарким пыльным днем, устав с дороги, берешь литровую кружку холодной воды, и второй или даже третий глоток, торопливо прокатившись по небу и горлу, расплывается в потемках тела, впитывается, и пьющий, все еще продолжающий пить, чуть замедляет темп и открывает глаза, ощущая в себе первые признаки насыщения и готовность снова продолжить путь.
Но вода в этот раз выливалась из Валентины – совершенно неподвластная никаким внутренним мышцам, неконтролируемая, ощутимая одним лишь своим пугающим непривычным теплом струйка сбегала с двух сторон, по каждой ноге, под халатом, постыдно утяжелив трусы, и прозрачной, крошечной лужицей ложась на пол. Всего-то несколько столовых ложек прозрачной воды. Но ее не должно было там быть.
«Вот и все, – с облегчением подумала Валентина и с любовью посмотрела на балкон, забыв про обиду, – странно, что столько воды, живота нет же почти…»
Живот, как это бывает после подобного излития в аналогичных обстоятельствах на более поздних сроках, тут же стал болеть более яростно, более ритмично. Волокна мышц напряглись, завибрировали, готовясь стать пращой или луком, – чтобы, растянувшись до оглушительной боли, выстрелить новую жизнь. Сколько раз переживала Валентина эту боль! Могла бы уже привыкнуть, но больно было так, как впервые. Так, как каждый раз, когда, рожая, она превращалась в животное, хрипло выла, трясла головой, ползала на четвереньках, билась головой о стены.
– Мам, мам, ты че? – спрашивали дети.
В квартире начался топот, защелкали выключатели, захлопали дверцы, зашелестели кульки. Голый пупс с раздавленной, сплющенной коллекторским башмаком головкой продолжал лежать, отброшенный, в углу прихожей.
Отец семейства спал на балконе, вытянув ноги, откинув голову на ящик, в который в этом году никто не посадил цветов, умиротворенно улыбаясь, укрытый одеялом из неба со звездами, одеялом теплого осеннего воздуха с терпким запахом отцветшей бузины.
– Папа! Папка!.. Папка, там мама рожает! Вставай!
В больнице, узнав анамнез и предысторию, Валентину оставили одну в неприятной комнате с двумя голыми, в бурой клеенке кроватями. Было поздно, все спали. В коридоре основной свет был погашен, и где-то далеко, за мрачными тихими дверями, настольная лампа неприятным скудным рыжим светом освещала пустой стул с накинутым на спинку белым халатом.
– Когда выйдет, позовешь, – сказала тощая докторша с кругами под глазами.
– Что выйдет? – сквозь зубы проскулила Валентина.
– Плод, – равнодушно ответила докторша и ушла.
Он яростно цеплялся там внутри. Валентину пучило, тужило и тошнило. Пот, слезы, какая-то слизь – все изливалось из нее, но он сидел, будто отчаянно вцепившись своими скелетообразными белесыми пальчиками в ее воспаленный, почерневший от крови эндометрий, и казалось, что скорее она сама вывернется наизнанку, чем непрошеная, уже наполовину издохшая жизнь выскользнет, отправившись в зеленый пластмассовый таз с непонятной надписью, сделанной темно-алой масляной краской.
Даже уставшая сонная докторша, два-три раза наведавшись, удивилась, что битва длится так долго, уже готова была вести пациентку на кресло, чтобы ускорить процесс изгнания, когда наконец он появился.
Он появился, и отчаянный писк – совершенно нечеловеческий, инопланетный звук – наполнил комнату. Доктор вышла в эту минуту, словно какая-то сила выгнала ее в коридор. Навстречу вразвалочку двигалась акушерка. Утреннее солнце положило на стену три золотые полосы. Лампочка продолжала мрачно и тускло гореть в конце коридора.
– Он что, живой? – обнятая солнцем, в красном золоте на груди, спросила Валентина. Бум-бум-бум! – колотилось в голове.
– Да нет… нет, это остаточное… – пробормотала акушерка, поднеся к лицу таз, в котором что-то мелко подрагивало.
– Можно посмотреть? – Валентина хотела привстать, но дурнота свалила ее обратно на кушетку.
Акушерка уже в дверях косо и явно недовольно глянула в таз, где продолжалась нерегламентированная возня, потом, строго, на Валентину:
– Женщина, там не на что смотреть. Это плод. Это не те дети, которых вы привыкли видеть.
И в этот миг звенящую нерастворенными кристаллами бессонной ночи, сумеречную, смертельной хлоркой пахнущую тишину прорезал отчетливый писк.
Акушерка замешкалась, отвела в темноту локоть с тазом, как бы пряча за себя.
Валентина приподнялась, готовясь встать.
– Так, а какой срок у тебя был? – примирительно спросила акушерка.
– Восемнадцать недель.
– Акушерских?
– Нет, акушерских шестнадцать.
– Фантастика, – сказала акушерка, – первый раз такое вижу. – И, покачав головой, ушла с тазом под мышкой, косо поглядывая в него, как в лукошко с явно несъедобными грибами.
С началом нового рабочего дня Валентину помыли и перевели в гинекологическое отделение. В комнате, где без привычных рахмановских кроватей, в таких неестественных условиях появился на свет ее ребенок, прибрали и уже застилали одноразовой простынкой рыжую клеенку, готовясь к приходам новых преждевременных родов. Послышался голос врача, свежий, бодрый, бойко залязгали инструменты. А зеленый пластмассовый тазик с непонятной надписью на боку поставили на широкий, как прилавок, каменный подоконник, возле холодильников, в которых хранили плаценты и прочее, еще более страшное содержимое подобных же пластмассовых тазиков. Там серовато-розоватое существо с обескровленными пальчиками, огромными, выпуклыми и прикрытыми тонкой птичьей кожицей глазами, с зажатой зажимом, но неперерезанной пуповиной продолжало вяло подрыгиваться, водило из стороны в сторону головой.