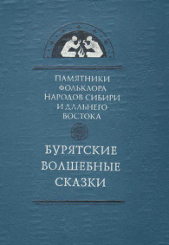Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
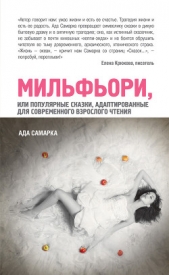
Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения читать книгу онлайн
«Сказка – быль, да в ней намек», – гласит народная пословица. Героиня блистательного дебютного романа Ады Самарки волею судьбы превращается в «больничную Шахерезаду»: день за днем, ночь за ночью она в палате реанимации, не зная усталости, рассказывает своему любимому супругу сказки, для каждой придумывая новый оттенок смысла и чувства.
И кажется, если Колобок спасется от Лисы, если Белоснежка проснется от поцелуя прекрасного принца, однажды и любимый человек выйдет из комы, снова станет жить полноценной жизнью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Свет нового дня, как кошачий язык, облизывал, умывая, тенистый песчано-сосновый пригород.
Хлопала большая металлическая дверь в парадном, и несколько голубей лениво переходили на другой бок лужи, в которую, метко брошенный, пуская по отражающейся серой синеве неба невнятную волну, ложился, чуть кружась, окурок. А в это время уже выл лифт, и чуть позже с лязгом отворялась личная металлическая дверь коридора, который Лесниченки, хоть и жили бедно, надежно охраняли. Бряцали ключи, с клокочущим шелестом в полумраке прихожей на вечно забитую каким-то хламом тумбу летела сумка, и тут же скрипел холодильник. Легкие шаги словно водили хороводы на пятачке между кухней, уборной и ванной. Потом все затихало. Когда первые лучи летнего солнца показывались между выступающими кнопочками бетонных балконов соседнего здания, окрашивая красной ртутью тонкие железные перекладины пожарных лестниц, просыпались младшие дети. Их вопль был более осмысленным, чем у младенцев, более противным: они все в этот период появления новых детей осознавали конец некоего собственного уникального положения и старались орать по утрам по старой памяти и подражая новым своим братьям. Это хриплое козявочное «нннныыыыыииии», становившееся по мере роста ребенка набором осознанно произносимых звуков (младенцы кричат истошно, но их рев не передать буквами), сочилось ядовито-синим через открытые форточки и невидимые каналы, расположенные в стенках стояка, до самого первого этажа.
– Ннныыыииии! Маааааммаа-э-э-э! Хны-хны-хни-и-и-и…
Старшие уже не кричали, так как знали, что потом, после решительного диванного скрипа и тяжелых, чуть путающихся быстрых шагов, будет короткий шлепок и грозное, хриплое ото сна:
– Ты чего орешь? Ты чего орешь, я спрашиваю?!
Иногда шлепка не было, и, перекрывая сонное, нарочито громкое хныканье, через всю квартиру, через весь дом, отчасти вырываясь в последние минуты нерастревоженного солнечного утра, вспархивая с отправившейся на работу стайкой воробьев, с отступающей тенью у мусорных баков, неслось:
– А ну спать быстро, кому сказала!!!
Средние дети просыпались сами, сами тяжелым многоногим топотком отправлялись на кухню, чем-то там клацали и хлопали дверцей холодильника. Холодильник от каждого хлопка качался, стукаясь о стенку, и поскрипывал напольным покрытием. Голосов не было слышно. Иногда с острым свежим рассыпающимся звоном падала и разбивалась тарелка или долго, кружась, вибрировала на полу металлическая миска.
В квартире, обращенной окнами на север, на синие пыльные шатры раскинувшегося неподалеку вещевого рынка, включали радио. Гнусавящим мужским голосом начинала петь Леди Гага, и сквозь бетонные стены, по цементным трещинам, по микроскопическим дырочкам в штукатурке к соседям проникало ритмичное приглушенное басистое буханье.
С мая по сентябрь распахивалась балконная дверь в девичью спальню – темную, полную сладковатого духа молодого сна, и оттуда, разлетаясь по золотистой лазури утреннего неба, касаясь сохнущего на чужих балконах белья, падая на влажный асфальт с палисадником и мусорными баками, неровным подростковым голоском вырывалось:
– Дура! Дура! Я все маме расскажу!
Много-много раз, словно пенясь вздохом облегчения, сливался водопад в уборной, трубы исправно и тихо клокотали, журчала вода в умывальнике, бачок не успевал наполняться. Стучали двери, елозили на кухне табуретки, звенела посуда, с задорным порывистым лязгом хлопала дверца микроволновой печи, и странно, что так долго, по пять минут и дольше, хозяева этих деловитых бытовых звуков не выключали чайник, который протяжно и сипло свистел, словно испуская тревожный сигнал, на который никто не обращал внимания. Потом в той взрослой северной квартире несколько раз хлопала входная дверь и несколько раз лязгала металлическая – семейного коридора, выпуская старших детей по их делам.
Радио замолкало, и в девичьей спальне снова правил покой, звуки жизни теперь шли не из этой квартиры, а просачивались в нее извне, позвякивали ветерком и тихими, размеренными, на два тона тише их собственных, соседскими копошениями, и вернувшаяся с ночной смены самая старшая дочка бесшумно и сладко вытягивалась, вздыхая, на просторном, хоть и кривом диване, в своих смятых простынях хранящем невнятные отпечатки чужих снов. Иногда лопасти дверного механизма начинали вращаться в обратную сторону – и снова бухало, лязгали замки, на тумбу летела сумка, не разуваясь, тяжелыми широкими шагами кто-то переступал по квартире в поисках забытой вещи и потом уходил, оглушительно громко хлопая, словно пытаясь усилием, приложенным для закрытия двери, силой звука и волной подхваченного коридорного воздуха быстрей доставить себя к пункту назначения, ускорить работу мерно воющего лифта.
– Да твою же ж мать! – сонно бурчало из девичьей спальни, где запечатанный плотными шторами, со спертым сладковатым воздухом, правил еще вчерашний вечер – горела не потушенная на ночь сорокаваттная лампочка на столе, серовато тускнел над карнизом отсвет от окна.
Во второй квартире, в десятки раз более шумной, в это время тоже включалась музыка, но не радио, а телевизора. Тихо топали и хлопали дверцей холодильника младшие школьники, и холодильник в этой квартире хоть и был другой модели, но точно так же покачивался, касаясь решеткой стены. Периодически слышалось какое-то сдавленное бормотание и отчетливое, взрослым голосом произнесенное:
– Ты можешь говорить тише? Алешенька спит!
Глава семьи имел слабость – по утрам, чтобы лучше просыпаться, он принимал ванну. Упругая струя хлестала в эмалированную стальную ванну, заглушая собой все прочие сантехнические звуки. Задорным голосом бубнило радио.
– Ны-ы-ы-ы-ы я тозе хацю-у-у-у! Уы-ы-ы-хны-хны-хны, – знакомой детской хрипотцой доносилось из западной части квартиры.
– Так! – ревело оттуда же. – Я тебе сказала, что сделать? Нет, я тебя спрашиваю! Что! Я! Сказала! Тебе! Сделать!
– Маам, я пошла! – писклявым звонким голосом сообщали из прихожей, дверь легонько стукала, клацал замок, но не до конца, потому приходилось стукать еще раз. Точно так, два раза, лязгала и металлическая дверь в общем коридоре.
– У тебя вообще есть мозги? Я тебя спрашиваю! У тебя есть мозги?!
На кухне скворчала и взрывалась какая-то еда на сковородке.
– Ну-хны-хны-хны-хны-ээ-э-э-э-э– э-э-эа-а-а-а-а-а-а-а-а!!!! Он забла-а-а-а-а-а-а-ал!!!
Кто-то тихо что-то спросил, и тот же женский голос заорал:
– Ну чего ты все время мамкаешь? Ну чего ты мамкаешь?
И спустя какое-то время, перекрывая шум воды ванной, явно ногой в мягкой тапочке сильно колотили в картонную дверь:
– Сережа, имей совесть, в конце концов, Дениска укакался!
Из ванной примирительно бубнил добродушный мужской басок.
Жизнерадостно тарахтел какой-то кухонный прибор. Из комнат слышалось характерное мультипликационное музыкальное треньканье и неестественные звонкие голоса актеров.
День в этих квартирах был наполнен шорохами конфетных оберток, шепелявыми детскими голосами, бумажным скрежетом ножниц и барабанной дробью падающих на пол фломастеров, механическим частым стуком ножа о разделочную доску, звоном посуды, сухим грохотком выдвигающихся и задвигающихся ящиков, шипением сковородки и мелким мерным дребезжанием крышки на кастрюле, голосами дикторов из передач о здоровье и тренькающими мелодиями из мультфильмов, детскими воплями и детским смехом, скребущими звуками ложек о тарелки, тихим нытьем, а еще – бессистемным и бессмысленным стуком и трением ног о стены (средние любили смотреть телевизор, лежа на диване вниз головой и поколачивая пятками обои, заметно их поизносив), резким шорохом целлофановых кульков, бесконечным хлопаньем дверей и дверец и периодическим заливистым младенческим плачем.
После обеда и после недолгого сна все они отправлялись на улицу и гуляли там под присмотром кого-то из старших. А в квартире звонил телефон и слышны были звонкий женский голос и неторопливые размеренные шаги.
Вечером с тихим урчанием во двор въезжал небольшой желтый автобус, сияющий глянцем, как новая игрушка. Глава семейства обходил его вокруг, постукивал по колесам. Доставал из-под сиденья тряпицу (бывшую рубашку в сине-серую клетку) и протирал большие сферические зеркала, потом запирал автобус на ключ и на непослушных от долгого сидения ногах, вразвалочку шел к киоску, находящемуся на углу дома, брал там пиво и две пачки сухариков. Летом, когда темнело поздно, его встречали гуляющие во дворе дети: завидев автобус на улице, бежали перед ним, и за ним, и по бокам, как туземное племя, чумазые, частично беззубые, с палками и сбитыми коленками. И обязательно сообщали друг другу: «Папка приехал! Папка приехал!» Вместе проверяли колеса и внимательно наблюдали за протиркой зеркал, а вот за пивом не ходили, ждали на почтительном расстоянии в прямой видимости от киоска и потом, построившись свиньей, рябым, чумазым клином, роняя ключи, мячи и железяки, волоча развязанные шнурки, шли следом в парадное. Парочка старших иногда оставалась кружить на велосипедах, стоя на вытянутых ногах и нахлобучив капюшоны, на сравнительно небольшом дворовом пространстве выписывая дуги и восьмерки.