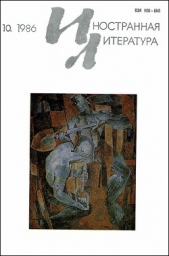На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986

На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986 читать книгу онлайн
Григорий Свирский восстанавливает истинную картину литературной жизни России послевоенных лет
Написанная в жанре эссе, книга представляет собой не только литературный, но и жизненный срез целой эпохи.
Читатель найдет здесь портреты писателей — птиц ловчих, убивавших, по наводке властей, писателей — птиц певчих. Портреты литераторов истерических юдофобов.
Первое лондонское издание 1979 г., переведенное на главные европейские языки, стало настольной книгой во всех университетах Европы и Америки, интересующихся судьбой России. И московские и нью-йоркские отзывы о «Лобном месте» Григория Свирского единодушны: «Поистине уникальная книга».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Беленые стены низким, теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашко снялся со своего места и побежал с вихляющимся портфелем к выходу.
— Товарищ представник, — Колывушка ступил вслед за ним, — распоряжение будет мне или как?..
Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот, — вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы… Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жердь, перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами.
… — Тебя на высылку…
И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство».
В крестьянском мире неподвижно все: старинные фотографии, полотенца и дешевые зеркала, висящие на стене. Образ беленого купола усиливает неподвижность.
Неподвижность эта — предсмертная. Тональность — скорбная. Прялка — потемневшая; женщины — как монашки. Купол обретает дополнительное значение — монастырского. Жизнь, придавленная куполом затворничества.
В этом контексте завершающее определение воистину гениально: «Мучительная чистота»… «Все вокруг: цветы, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту…»
Два огромных усилия крестьянской жизни сплавились тут воедино: прежде всего, исконное напряжение крестьянского труда, двужильного, трехжильного. Тут напряжение предельное, порядок извечный. «В этом господарстве не может быть того, чтобы не сдано…»
И второе слагаемое налаженной трудовой крестьянской жизни — ощущение смертного часа. Вся материя — шкафы, лавки чувствуют свою гибель. Крестьянский мир застыл в мучительной и безысходной окаменелости.
Другая, начальствующая стихия — стихия разрушения. Уполномоченный РИКа Ивашко «побежал с вихляющимся портфелем», «вскочил в хату», «ерзал ногой, вдавливая ее в половицы»… «прижимал к бедру переламывающийся холстинный портфель»… Андриян Моринец — «нечеловечески громадный»… «двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла».
Все в этом стане кривое, нечеловеческое. Неправдоподобно-огромное или суетливое. Ивашка кричал, «болтая руками». «Тымыш мерил длинными ногами грязь».
«Во двор Колывушки вступило четверо». Вступают оккупанты. Передовые части вступают.
Но вот что странно: вступив, оккупанты почему-то не чувствуют уверенности. Хотя, казалось бы, за нимисила. Сила сталинских указаний.
Наметились неслыханные в советской литературе образы победителей — нелюди. «Курвы-нелюди», — через сорок лет скажет о них один из героев Галича.
Еще и полстраницы не прочтено, а поэтика первых строк не оставляет сомнений в позиции автора.
Начинается вторая страница прозы Бабеля, условно отделенная мною, для исследования структуры «Колывушки», от начальной. Я приведу ее с небольшими сокращениями, чтобы у читателя, которому негде познакомиться с «Колывушкой», могло сложиться собственное отношение, не навязанное.
«Во дворе Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Рузвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе.
— Помиримось, — протягивая ей руку, сказал Иван, — помиримось, дочка…
…Ухо лошади повисло, глаза ее косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двинулась, таща прыгавшую борону. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.
— Маты, — услышал Иван далекий голос, — маты, он все погубляет…
Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела, как саван, на плоском ее теле. Старуха ступила в снег мохнатыми чулками.
— Кат, — отнимая топор, сказала она сыну, — ты отца вспомнил?.. Ты братов, каторжников, вспомнил?..
Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.
— Примись, стерво, — сказал ей муж. Иван стоял, опершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору…
— Я человек, — сказал вдруг Иван окружившим его, — я есть человек, селянин… Неужто вы человека не бачили?..»
…Такова вторая часть повествования. Топор. Крушение дома, семьи, мира. Самоистребление. Чем вам, лучше никому.
Разрушению машины посвящены полторы строчки. А на лошадь — полстраницы.
Бабель — не садист. Почему так много о мучениях лошади?
Дело-то не только в лошади, хотя лошадь — опора в хозяйстве. Лошадь здесь не хозяйственная сила, а живое, родное, неотделимое. Пока ее убивают, в ней ворочается жеребенок. «Помиримось, — говорит ей Иван, протягивая руку к лошади. — Помиримось, дочка».
Неслыханной мукой лошади отмерена мука Ивана Колывушки. «Дыхание его, гремя, разносилось по двору». До него доходит ужас свершенного: дочку убил…
Рушится семья патриархальная; правда, мать еще имеет власть. Да что в том? Бабель уже обнажил и глубинный смысл происшедшего: бунт Колывушки — бунт безумный, устрашивший еще Пушкина: «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»
Из ворот колывушкинского дома выплыли к вечеру сани. «Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы… Воз проехал краем села и утонул в плоской снежной пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо…» Жестяное небо над деревней.
Гениальная проза. Гениальная и потому истребленная. Глубина «Колывушки» — новая высота даже для Бабеля, автора «Конармии» и «Одесских рассказов».
…Предсмертное окоченение крестьянского мира и посмертное окоченение мира кормильцев — так выстроил Бабель главу. Женщины, хоронящие себя почти по-монашески — смиренно и торжественно. Колывушка хоронит себя с топором в руке. И говорит, казалось бы, несвойственное ему совершенно:
«Я человек, — вдруг сказал Иван…»
Это не философ сказал, не Сатин из пьесы Горького. Это произнес мужик, который о таких материях, казалось бы, и не задумывается. Человек дочку убил, больше ничего у него не осталось, и тогда лишь сказал.
Как стон это: «Я есть человек, селянин… неужто вы человека не бачили?»
Мужики сострадают Колывушке. Смотрят в сторону… Какие нравственные глубины раскрывает эта простая фраза о мужиках, которые «смотрели в сторону». А когда завизжала, рванулась чужая баба, тут же унял ее мужик: «Примись, стерво».
Начинается третья страница, завершение. Нарастает тема окоченелости крестьянского мира. Уж не только дом Колывушки — народ показан в окоченении. Президиум собрания, которым прикрывается Ивашко из РИКа, даже этот колхозный президиум, «актив», как его именуют в райкомах, — образ вековечного молчания. Батрачка по фамилии Мовчан, голова Евдоким, нерешительно заступавшийся за Колывушку: «В этом господарстве не может быть того, чтоб не сдано…», безвольный Андриан Моринец. Вот она, крестьянская тройка. Сталинское особое совещание. И в городе, и в селе — всюду образовано это, «от имени народа», прикрытие расправ.