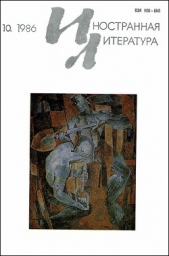На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986

На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986 читать книгу онлайн
Григорий Свирский восстанавливает истинную картину литературной жизни России послевоенных лет
Написанная в жанре эссе, книга представляет собой не только литературный, но и жизненный срез целой эпохи.
Читатель найдет здесь портреты писателей — птиц ловчих, убивавших, по наводке властей, писателей — птиц певчих. Портреты литераторов истерических юдофобов.
Первое лондонское издание 1979 г., переведенное на главные европейские языки, стало настольной книгой во всех университетах Европы и Америки, интересующихся судьбой России. И московские и нью-йоркские отзывы о «Лобном месте» Григория Свирского единодушны: «Поистине уникальная книга».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В юбилейный год советской власти цензурный произвол и самодурство достигли апогея, что является кощунственным».
Десятки писателей сказали подобное.
До солженицынского письма на такое не решались.
Время разделило Союз писателей СССР на две смертельно враждующие группы — писателей и карателей.
9. Каратели
В Союзе писателей СССР суматоха. Бегают секретари, гардеробщики, литчиновники.
Начальник секретного отдела Союза писателей, однорукий худой гебист в отставке, оступился от усердия на деревянной лестнице и полетел с грохотом вниз. Заведующий отделом драматургии и театра Громов оттер привратника и распахнул пошире дверь.
К подъезду подкатили бесшумно две большие черные машины.
— Кого принесло? — спросил я своего товарища.
— А! — Он отмахнулся небрежно. — Чучело орла…
Я не люблю писателей холодных. Константин Федин поэтому никогда не был моим писателем. Однако, переступив впервые порог Союза писателей, я испытывал к нему уважение, какое испытывают к мастерам.
Я говорил недовольным: «Он — мастер!»
Я был удивлен, правда, силой презрения к нему, которого не скрывали писатели-старики. Почему-то они всегда начинали рассказ о нем с дороги в эвакуацию.
Константину Федину была предоставлена в вагоне, как классику, вторая полка, — вспоминали они. — Он укладывался на ней и начинал обсыпать себя порошком от клопов и прочих паразитов. Внизу сидели, тесно прижавшись друг к другу, писатели, не зачисленные в классики. Клопиный порошок густо сыпался на них, на жалкую еду военных лет, на детей. Федин на возгласы снизу не отвечал, словно там никого не было. Не снисходил…
Я относился к подобным рассказам чаще всего как к обычному недоброжелательству: преуспевающие писатели порой окружены им, как облаками. Так продолжалось до тех пор, пока я не узнал подробностей гибели Марины Цветаевой. Оказалось, перед самоубийством, в отчаянии и беде, Марина Цветаева добралась до татарского города Чистополя, где, фигурально выражаясь, раскинули свои шатры эвакуированные писатели поизвестнее. Она ходила к Федину и Асееву, просила их помочь; а вернувшись в свою забытую Богом Елабугу, накинула на себя петлю…
Тут-то я понял, что порошок, густо сыпавшийся на «нижесидящих» писателей, — не выдумка: Федин оградился им и от плачущей Марины Цветаевой…
Позднее он с такой же легкостью отвернулся от Бориса Пастернака, Александра Солженицына, Александра Твардовского, Синявского и Даниэля — от всех, на кого указывала державная рука. Он знал, как обращаться с тем, что беспокоит, вызывает зуд. Достаточно обсыпать себя вонючим зельем, и ты в безопасности!..
Но не будем начинать с конца.
Константин Федин был не хуже других писателей 20-х годов, жаждущих признания и удачи. Да, он убил своего главного героя Андрея Старцева из романа «Города и годы», создавшего ему имя. Уничтожил русского интеллигента, как собаку: по убеждению автора, писатель обязан развенчать, а то и уничтожить героя, поставившего личное над общим!
Писатель Тренев заставляет Любовь Яровую, в своей пьесе, предать мужа — белого офицера. Маринист Борис Лавренев нажимает спусковой крючок винтовки, вложенной им в руки женщины, героини талантливой повести «41-й», и она убивает своего возлюбленного, поскольку и тот оказался — хуже не придумаешь! — инакомыслящим.
Этих «высот» держались, как мы помним, многие. И вполне искренне: резня называлась классовой борьбой.
Только Бабель — в тоске от безнравственности революции. Он, как и его Гедали, не в восторге от того, что герой-буденновец режет своего «папашу». Пусть и белого… «Летопись будничных злодеяний» теснит его сердце.
…«Летопись» двадцатых закономерно перешла в «летопись» тридцатых, когда сыновья отказывались от отцов и матерей, новоявленных «врагов народа»…
Думаю, она, эта нескончаемая кровавая летопись, теснила и сердце бывшего актера Константина Александровича Федина: человек не рождается волком… Однако Константин Александрович не желал расставаться с комфортом, он цеплялся за него скрюченными старческими пальцами; я помню вскрик Федина, когда ему сказали о новом распоряжении Литфонда СССР, по которому писательские дачи должны ремонтировать сами писатели. «Дайте нам умереть спокойно!» — вырвалось у него в испуге и гневе.
Когда в ЦК партии решили судить Даниэля и Синявского, Федин сказался больным. Брежнев с товарищами из Политбюро прибыли в поселок Переделкино, на дачу Федина. Переделкино было оцеплено.
Федин не перечил гостям. Конечно, он не против суда над писателями.
Константин Александрович снова обсыпал себя порошочком… Он обсыпал себя и когда надо было поддержать Паустовского, Тендрякова, Казакевича, Алигер, Бека. «Незамиренных горцев», как он иронически окрестил их.
А сколько было натрушено порошочка, когда потащили на лобное место Александра Солженицына!..
Тут не выдержали даже друзья Федина, знавшие его со времен «Серапионовых братьев» — литературного сообщества, которое, как известно, отвергало государственную опеку. «С кем мы? — демонстративно вопрошали «Серапионовы братья». — Мы с пустынником Серапионом…»
Давненько уж никто из них не клялся в верности Серапиону. Недостреленные «серапионы» жили с Фединым бок о бок и прощали ему многое. В тот час не простили и они.
«Мы знакомы 48 лет, Костя, — гневно написал ему Вениамин Каверин. — В молодости мы были друзьями. Мы вправе судить друг друга. Это больше, чем право, это долг…
Как случилось, что ты не только не поддержал — затоптал «Литературную Москву», альманах, который был необходим нашей литературе? Ведь накануне полуторатысячного собрания писателей в Доме киноактера ты поддерживал это издание. С уже написанной опасно-предательской речью в кармане, ты хвалил нашу работу…
Недаром на 75-летии Паустовского твое имя было встречено полным молчанием. Не буду удивлен, если теперь, после того как по твоему настоянию запрещен уже набранный в «Новом мире» роман Солженицына «Раковый корпус», первое же твое появление перед широкой аудиторией писателей будет встречено свистом и топотом ног… Нет сейчас ни одной редакции, ни одного литературного дома, где не говорили бы, что Марков и Воронков были за опубликование романа и что набор рассыпан только потому, что ты решительно высказался против…
Ты берешь на себя ответственность, не сознавая, по-видимому, всей ее огромности и значения… Ты становишься, может быть, сам того не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу…»
Тут неточна, пожалуй, лишь одна фраза: «Сам того не подозревая»…
Константин Александрович «подозревал», как он любим: годами ощущал себя в пустоте, в окружении одних лишь государственных дам, вроде личного биографа Брайниной или главного редактора и цензора писательского издательства Карповой, которые разве что в доме Федина не ощущали на себе презрительных взглядов писателей.
Александр Твардовский, так же как и Каверин, пытавшийся спасти для широкого русского читателя Солженицына, завершил свое предельно сдержанное письмо к Федину словами, исполненными безнадежности: «…Кончаю свое послание, как уже сказал, без особых упований на благоприятный практический его результат».
Когда Константин Федин пишет личные письма под копирку, первый экземпляр — адресату, второй — в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства), когда он этак примеряет себя к истории — это может вызвать лишь улыбку.
Когда он ограждает себя клопиным порошком от литературы, когда загоняет поэтов и писателей в петлю, — тут уж не до улыбки.
Мне пришлось быть невольным слушателем речей Федина. Видеть его много раз. Заслуживает внимания, пожалуй, лишь один эпизод.
У входа в дом творчества «Переделкино» столкнулись Константин Федин и моложавый порывистый Елизар Мальцев, добрейший, верноподданный Елизар Мальцев, удостоенный в свое время даже должности секретаря писательского парткома.