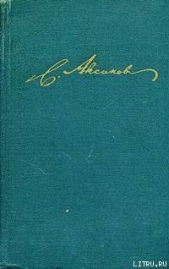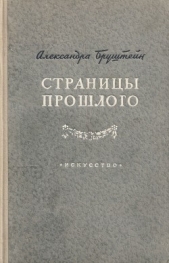Театральные портреты.

Театральные портреты. читать книгу онлайн
Вступительная статья и примечания М. О. Янковского."Театральные портреты" великих актеров 19 - начала 20 вв. Среди них П. А. Мочалов, А. И. Южин, М. Н. Ермолова, К. А. Варламов, М. Г. Савина, В.Ф. Коммисаржевская, В. П. Далматов, М. В. Дальский, Е. Н. Горева, Ф. П. Горев, Ю. М. Юрьев, В. И. Качалов, П. Н. Орленев, Н.Ф. Монахов, А. Д. Вяльцева, Томмазо Сальвини, Элеонора Дузе, Сара Бернар, Режан, Анна Жюдик, "Два критика (А. И. Урусов и А. Н. Баженов)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
* * *
Настоящим образом Монахов обнаружил и проявил себя с революцией. Революция, изменившая весь уклад жизни, перевернула, между прочим, и театральную табель о рангах, уничтожив или, по крайней мере, значительно ослабив привилегии жанров. Оперетка все же была «черная кость» еще больше, чем балет, и немного меньше, чем эстрада, — так гласил канон лицемерной эстетики, расставивший по полочкам, за номерами и этикетками, явления искусства.
Было «все высокое и все прекрасное», о чем трактовали многоумные профессора Серебряковы из «Дяди Вани», тридцать лет писавшие об искусстве и ничего в нем не понимавшие, и было милое, хотя и погибшее, театральное развлечение, вот как бывает «погибшее, но милое создание». Театральный рецензент «Нового времени» Юрий Беляев[251] написал как-то в одной из рецензий про Монахова: «В оперетте он положительно засиделся. На настоящую драматическую сцену! — хочется крикнуть ему». Хочется, но и колется. И кто посмел бы это сделать? И что стала бы «говорить княгиня Марья Алексевна?»
До революции — это можно сказать с уверенностью — Н. Ф. Монахов, при всей своей даровитости {274} и всей гибкости, никак бы не выбрался из специфического круга ролей опереточного простака. Ни у кого не хватило бы дерзновения перепутать театральные ранги и классы. Это мог сделать — и сделал — революционный порыв, который всюду искал новых путей, новых людей, комбинаций и сочетаний, везде дерзал и пробовал.
Появление Монахова в ролях «высокой» комедии и драмы — в своем роде революционный акт, а сам Н. Ф. Монахов, можно сказать, есть усыновленный революционный актер драмы. Я помню свое изумление, когда узнал, что первые роли в Большом драматическом театре играет Монахов и что он выступает ни более ни менее как в роли короля в шиллеровском «Дон Карлосе». И когда я смотрел его, то добрых полчаса мне пришлось употребить на то, чтобы побороть свое предубеждение. Но это был действительно король, действительно шиллеровский король, а не тот король, который «веселится» в оперетке и столь очаровательно исполняется Монаховым.
Переходу Н. Ф. Монахова на драматическую сцену много способствовала М. Ф. Андреева, основавшая так называемый Большой драматический театр. В феврале 1919 года состоялась премьера «Дон Карлоса». А. В. Луначарский на страницах «Правды» так излагает свое впечатление, близкое у него, как и у всех других, к удивлению. «Монахов до сих пор был исключительно опереточным актером и на веселой сцене (слышите — отзвук пренебрежения, воспитанного нашими старыми предубеждениями!) стяжал себе большую популярность. Это заставило кое-кого думать, что в данном случае он берется не за свое дело. Но все сомнения рассеялись при первых, можно сказать, произнесенных словах Монахова. Скажу откровенно, я не знаю, мог ли бы я назвать три-четыре имени известных актеров, которых {275} я бы мог легко поставить рядом с Монаховым, таким, каким он мне показался в этой роли».
К этим замечаниям А. В. Луначарского, пожалуй, можно было бы прибавить, что сомнение не столько рассеялось при первых словах Монахова, сколько при первом на него взгляде. Это был глубоко задуманный, реалистический образ Филиппа в романтической трагедии Шиллера.
Позволю себе привести отзыв М. А. Кузмина[252] об исполнении Монаховым роли Филиппа. Этот отзыв кажется мне наиболее четким и верным.
«Исполнение Монахова, — пишет М. А. Кузмин, — это не классическая или романтическая трагика, не приниженное рационально-реалистическое толкование трагедии — это совсем особый замысел очеловечиванья героических типов. Монахов не дает схемы злодея, тирана, предателя, он дает живого человека со всеми его слабостями и достоинствами и лишь с гипертрофией одной страсти или одной воли».
Часто для подчеркивания этой человечности Монахов прибегает к приему, сходному с приемами экспрессионистов. А именно — к наделению изображаемого героя физическими привычками, слабостями, недостатками. Как экспрессионисты, в пылу протеста против механизации, кричат: «Мы не машины — смотрите, — у нас болят зубы, болезнь печени, язвы и раны — мы люди», так и Монахов как бы все время повторяет: «Это не схема “венценосного” тирана, это — живой человек. Видите, он почесывает бороду, скашивает глаза, и он даже улыбается, это не отвлеченное пугало, а ужасный, жестокий, низкий, несчастный человек». Это почесывание бороды, совершенно ненужное для типа тирана, необходимо и убедительно у живого Филиппа. Интересно, что жест, задуманный, может быть, как машинальный, {276} механический, сделался показательным знаком жизненного, а не схематического построения роли. Подобные же детали можно было бы проследить в работе Монахова и над другими его ролями (Цезарь, Яго, Мальволио).
Разумеется, это не была «романтическая трагедия». Монахов — не трагик в тесном значении слова. Ему чужды патетика и схематизм трагической игры. Он — реалист. Его сила — в жизнеощущении. В конце концов, это очень живописно и хорошо, что Филипп почесывает себе бороду, но все же дело совсем не в этом, и Шиллер совсем не эти реалистические штрихи имел в виду, а, так сказать, суммарную психологию, алгебраическую сущность характеров, когда писал своего «Дон Карлоса». Большое художественное чутье Монахова удерживало его на грани допустимого и, играя трагического героя, он не пересаливал в реалистической трактовке роли. Он — интересный Филипп, и безотносительно — это крупное достижение его таланта. Этим замечанием я хочу сказать лишь, что подлинное у Монахова — это, конечно, русская реалистическая складка.
Этот реалистический лик игры Монахова весьма ярко сказывается в исполнении двух персонажей — психологически совершенно между собой не схожих, — как царевич Алексей[253] и Распутин[254]. Оба образа в исполнении Монахова весьма рельефны. Царевич Алексей у Монахова (в совершенном соответствии с замыслом автора, склонного к мистической трактовке и находящегося под видимым влиянием Достоевского) чрезвычайно похож на юродивого Гришу, на князя Мышкина («Идиот»), на блаженненьких и блажных, на Федора Иоанновича, что такой мастер передавать П. Н. Орленев.
Царевич Алексей — весь надрывный, весь «сосуд скудельный». Жалок и ничтожен, и в то же время словно просветлен светом каким-то, и свет этот не его, {277} а льется откуда-то из мистического далека. Какая-то кислятина, рыхлость, которую не уместить ни в какие формы и которая ускользает из самых крепких рук. Начинаешь понимать Петра. Рука у него крепкая, железная, согнет дугу, подкову. Но как сжать липкое, тянущееся месиво? Можно переубедить логику. Можно ждать, что с течением времени разумное одержит верх над заблуждающимся. Но тут материал несопротивляющийся; самая стихия иная; не логика, а чувство, темнота, освященная мистикой. Тут блаженны не ведающие, темные, ограниченные, ничтожные, ибо будто им-то, за их темноту, невежество и ограниченность, уготовано «царство небесное».
Вот эту-то смесь блаженненького с истерическим, бесформенного с нудным, подчиненного и пассивного с упорством бессознательной стихии — мастерски передает Монахов. И не то жалко Алексея, не то плюнуть хочется, не то страшно за сыноубийцу — Петра, не то кажется, что величайшая кара Петру, его кошмар, его проклятие в том, что ему, революционеру, человеку железа и стали, дан в сыновья этот липкий пластырь — антипод его, воплощение застойного, гниющего человеческого болота. Весь трагический узел русского раздвоения, этот тупик национальной психологии и истории встает перед глазами.
Затем перенеситесь на двести лет вперед, посмотрите на мужика Распутина, как он выходит у Монахова. Снова замечательно просто и чрезвычайно по-русски. Монахов — в своей стихии. Распутин опрощен, приближен к нам. Эта замечательная в истории гниющего самодержавия фигура лишена всякого мелодраматизма, всякой романтической подмалевки, всяческого злодейского эффекта. Распутин — полуграмотный, умный мужик. Хитер, себе на уме, ловок, преисполнен такта. {278} В этом полудикаре артист обнаруживает исключительный такт. Что такое такт? Это — инстинктивное чувство равновесия. Такт вовсе не означает, что человек всегда любезен, соглашателей и т. д. Такт — это грубость там, где грубость наиболее уместна; ласковость, когда это нужно; поза, когда она необходима. Это — актерство в высшем, то есть житейском смысле слова. Распутин распоясывается иногда, разумеется, но большей частью играет свою роль, вживается в нее до того, что вы не знаете, где же маска и где лицо.



![Силь [= Сил]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)