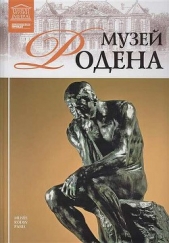Беседы об искусстве (сборник)

Беседы об искусстве (сборник) читать книгу онлайн
Бронзовые и мраморные создания великого французского скульптора Огюста Родена находятся в крупнейших мировых музеях, и даже далекие от искусства люди представляют, как выглядят «Мыслитель», «Поцелуй», «Вечная весна», «Граждане Кале». Однако мастер оставил нам не только скульптуры, но также интереснейшие литературные работы. В настоящем издании, кроме знаменитого «Завещания», представлены его «Беседы об искусстве» и «Французские соборы».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Создатели этих маленьких чудес – ученики Рабле или его соперники.
Духовная музыка, сестра-близнец этой архитектуры, окончательно проясняет мне душу и ум. Потом она смолкает, но еще долго отдается во мне, помогая проникнуть в глубокую жизнь всей этой красоты – беспрестанно обновляющейся, преображающейся в зависимости от точки, откуда ею любуются: передвиньтесь на метр или два, и все изменится; однако общий порядок сохранится, подобно единству в многообразии прекрасного дня. – В грегорианских антифонах та же единая и многообразная величавость; они модулируют тишину, как готическое искусство моделирует тень.
Какая грандиозная и кроткая щедрость!
Никогда я столь явственно не ощущал величие человеческого гения. Я чувствую, как сам вырастаю под наплывом восторга. Так возродился бы народ, который дал бы себе труд смотреть, попытался бы постичь. И я неустанно кричу своим соотечественникам: нет ничего прекраснее для глаза, ничего полезнее для изучения, чем наши французские соборы, и в первую очередь – этот! Почему вы ослепли, наследники провидцев, создавших шедевр?
Теперь музыка, еще недавно смутно слышимая, становится явственнее, упорядочивается. Радость множества душ, чаруемых ею из века в век, порождает этот собор, который и сам – музыка, ибо это две гармонии, которые влюбленно тянутся друг к другу, соединяются, сливаются. Жизнь вырывается из тени и возносится к коньку крыши светящимися мелодичными витками. Я различаю ангельские голоса…
Какие слова могли бы передать счастье, облекающее меня со всех сторон, это восхищенное изумление души, вдруг почувствовавшей себя окрыленной среди переливов певучей тени?
Эта световая пыль, это мерцание тени, восхититься которыми побудил нас Рембрандт, не у вас ли позаимствованы, соборы? Впрочем, он единственный сумел средствами другого искусства выразить, определить и воплотить это чудо – неиссякаемое богатство тени.
Что там за архаичный силуэт?
• Ангел! Шартрский Ангел!
Я обхожу его кругом, изучаю – уже не в первый раз и, как всегда, упорно.
Хочу понять!
…И вот прошли часы. Я ухожу, изнуренный своими усилиями, смущенный…
Но вечером прихожу снова. Я восхищаюсь, и мне кажется, что теперь, когда на Ангеле больше нет солнца, я мог бы точнее определить причины своего восхищения. Я бодр, как хороший рабочий; моя задача – понять, и с этой целью я собираю все свои силы. Я созерцаю.
И это чудо по-прежнему ослепляет меня. Какая гордость! Какое благородство! Шартрский Ангел – словно птица, сидящая на краю какого-то высокого утеса; словно одинокое небесное светило, озаряющее огромные каменные опоры. Яркий контраст между этим Одиночкой и толпами, сгрудившимися под порталом, где тесно от каменных и живых фигур.
Я приближаюсь еще немного, потом отступаю влево, стараясь пристальнее вглядеться в красоту этого прелестного существа… Временами я понимаю.
Его голова – словно окрыленная сфера. Его одежды восхитительны своей мягкостью, со множеством складок на туниках.
Какое обрамление создают для него мощные уступы контрфорсов!
С высот своего одиночества он радостно, будто провозвестник, взирает на город.
На его груди – часы; стушеванное, скользящее акантовым листом тело предстает в профиль.
Как целомудренно его тело! Это не сладострастная Ника Самофракийская, что выставляет свою наготу под прозрачным покровом облегающих одежд. Здесь царит скромность. Одеяние строго обозначает формы, не лишая их при этом изящества, но нужен серьезный повод, чтобы нога или рука выдвинулись вперед, образовав выпуклость.
Ангел – словно точка на этом огромном основании, словно звезда на еще темном небосклоне. У него благостный, исполненный мудрости профиль. Он несет в себе итог всех философий. Час отмечается на нем, как изречение в книге. С какой отрешенностью держит он и показывает нам этот час, который ранит и убивает!
Глубоко значение этого жеста; благотворно бдительное внимание скульптора, нашедшего его, захотевшего передать. Солнечный циферблат – это регулятор: Бог таким образом управляет нами, беспрестанно вмешиваясь в нашу жизнь при посредстве солнца. Стало быть, этот Ангел несет на своей груди закон и меру, что происходят от светила и от Бога. Каждодневный труд человека обожествляется, упорядочиваясь согласно колебаниям этого божественного света.
Или же этот Ангел – некий сфинкс? И он вопрошает нас о смысле времени? Нет! Он оберегает город. Его красота внушает моей устремленной к нему душе чувство равновесия.
Что за мираж в моем рассудке?
Я возвращаюсь еще раз, подхожу, поднимаю глаза: этот Ангел – камбоджийская фигурка!
Никогда у меня не возникало впечатления, подобного этому; я действительно вижу эту изумительную фигуру впервые. Или, по крайней мере, вижу ее уже не так, как видел до нынешнего дня…
Это значит, что можно очень по-разному смотреть на прекрасную вещь. Поскольку при перемещении появляются новые профили, шедевр преображается в нас согласно движению, вызванному в нашем уме; это движение, не обособляясь в нашей активности, присоединяет впечатление от шедевра ко всем нашим чувствам, и впечатление начинает жить нашей жизнью, окрашивается в зависимости от других впечатлений, которые доставляет нам жизнь и благодаря которым мы обнаруживаем меж двух весьма отдаленных друг от друга рубежей таинственные, но реальные аналогии.
Между двумя паломничествами в Шартр я видел камбоджийских танцовщиц [152]; я прилежно изучал их в Париже (на Кателанском лугу [153]), в Марселе (на вилле Глициний), с бумагой на коленях и карандашом в руке, очарованный своеобразием и большой содержательностью их танца. Но особенно я был удивлен и восхищен, обнаружив в искусстве Дальнего Востока, не известном мне до тех пор, сами принципы античного искусства. Перед очень древними скульптурными фрагментами, столь древними, что трудно отнести их к какой-либо эпохе, мысль ощупью отступает назад, на тысячи лет, к первоосновам: и вдруг появляется живая природа, словно старые камни ожили на наших глазах! Эти камбоджийки дали мне все, чем я восхищался в античном мраморе, добавив сюда неизведанность и гибкость Дальнего Востока. Какой восторг – убедиться, что человечество так верно себе на протяжении пространства и времени! Но у этого постоянства есть основа: чувство традиции и религия. Я всегда смешивал искусство религиозное и просто искусство: когда гибнет религия, гибнет и искусство; все шедевры – греческие, римские, наши – религиозны. – Действительно, танцы религиозны, потому что артистичны; их ритм – это ритуал, и именно чистота ритуала обеспечивает чистоту ритма. Потому-то Сизоват и его дочь Сампондри, директриса королевского балета, так ревниво следят за тем, чтобы сохранить в этих танцах самую строгую ортодоксию, чтобы они остались прекрасными. Та же мысль долго оберегала искусство в Афинах, в Шартре, в Камбодже, повсюду, варьируясь лишь из-за разницы в вероисповедании; да и сами эти вариации смягчались благодаря родству человеческих форм и жестов на всех широтах.
Увидев античную красоту в камбоджийских танцах, я, вскоре после своего пребывания в Марселе, увидел красоту камбоджиек в Шартрском соборе, в позе большого Ангела, которая не слишком далека от танцевальной. Подобие всех прекрасных человеческих выражений во все времена подтверждает и вдохновляет глубокую веру художника в единство природы. Различные религии, согласные между собой в этом вопросе, были хранительницами основных гармонических мимик, посредством которых человеческая природа выражает свои радости, тревоги, уверенности. Крайний Запад и Крайний Восток в своих высших произведениях, где художник выразил то, что есть основного в человеке, неизбежно должны были сблизиться.