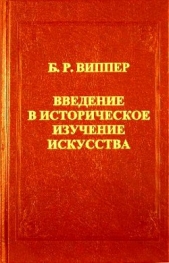Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
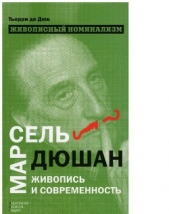
Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность читать книгу онлайн
Предметом книги известного искусствоведа и художественного критика, куратора ряда важнейших международных выставок 1990-2000-х годов Тьерри де Дюва является одно из ключевых событий в истории новейшего искусства - переход Марселя Дюшана от живописи к реди-мейду, демонстрации в качестве произведений искусства выбранных художником готовых вещей. Прослеживая и интерпретируя причины, приведшие Дюшана к этому решению, де Дюв предлагает читателю одновременно психоаналитическую версию эволюции художника, введение в систему его взглядов, проницательную характеристику европейской художественной сцены рубежа 1900-1910-х годов и, наконец, элементы новаторской теории искусства, основанной на процедуре именования.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот же самый закон руководит и реди-мейдом, а реди-мейд — опять-таки посредством «коммандитной симметрии» — выявляет его. Дюшан никогда не стремился делать массовое искусство, наоборот. Он показал, каковы были условия выживания «чистого» искусства в массовом обществе, и основал на этом показе свое искусство. Если мюнхенский художественный институт оказался готов признать художественной массовую демонстрацию продуктов потребления, коль скоро их масса прошла предварительный отбор, то Дюшан объявил художественным какой угодно продукт потребления, лишь бы только он был изъят произвольным выбором из предварительного ряда, в котором массово демонстрировался. Ярмарка Мэрии, на которой через два года он выберет свою сушилку для бутылок, явилась, таким образом, «обратным» следствием Gewerbeschau, которую Дюшан посетил или не посетил, так или иначе оказавшись свидетелем шума вокруг нее во время пребывания в Мюнхене.
Подытожим: «состояние художественных проблем и практик», преподносящееся Дюшану в виде климата как раз в тот момент, когда художественный работник в его лице отомстил за абитуриента, не принятого в Школу изящных искусств, отзывается в последующем событии, имя которому —реди-мейд и которое преподносится нам как стратегический раскол, имеющий все признаки отказа от ремесла. Каковы же были обстоятельства этого «отказа», являющегося на самом деле не отказом от ремесла вообще, а отказом от живописи в частности?
Цвет и его имя

ЛЕТОМ 1912 года центральной фигурой в живописном сообществе Мюнхена был Кандинский. Группировка «Синий всадник», основанная им вместе с Францем Марком в конце 1911 года, провела к этому времени уже три выставки, а его книга «О духовном в искусстве» выдержала два издания и в скором времени ожидала третьего. В апреле отрывок из нее опубликовал журнал «Der Sturm» («Натиск»), и потом сразу три текста, в том числе программную статью «Über die Formfrage», посвятил ей «Альманах „Синего всадника"». Нет никаких свидетельств о знакомстве Дюшана с Кандинским, который был на двадцать лет его старше. Едва ли два эти художника, практически во всем стоявшие на противоположных позициях, нуждались друг в друге в качестве собеседников. Вполне возможно, однако, что Дюшан видел живопись Кандинского в Мюнхене или Берлине, и не исключено, что он читал или пробовал читать «О духовном в искусстве». Экземпляр второго издания этой книги с пометками был обнаружен в библиотеке Жака Вийона. По некоторым источникам, пометки, представляющие собой попытки перевода отдельных пассажей, сделаны рукой Дюшана. По другим — принадлежат его брату Раймону. Так или иначе, дата выхода книги в свет говорит в пользу того, что именно Дюшан приобрел книгу в Мюнхене летом 1912 года35.
«Эти странные существа, называемые красками»
В том, что Кандинский не оказал на Дюшана никакого влияния, сомневаться не приходится. Однако сопоставить двух художников нужно по другой причине. Они оба были заняты размышлениями — во многом противоположными и симметричными по направленности —о связи между цветом и его именем. Дюшан никогда не посвящал этим размышлениям отдельного теоретического изложения, и вполне вероятно, что в значительной мере они так и остались у него «бессознательными». Но, как мы увидим позже, он зафиксировал момент их выхода на поверхность и извлек из него выводы. Этот выход вновь должен быть отнесен нами на счет откровения символического, а сделанные из него выводы сыграют ключевую роль в «отказе» от живописи и «изобретении» реди-мейда. Кандинский, напротив, неоднократно писал о наименовании цветов, и его замечания о нем свидетельствуют, что вопрос об имени сыграл немаловажную роль в отказе от изображения и формировании «чистой» живописи. Эти замечания восходят к различным, преимущественно символистским, источникам, один из которых для нас особенно интересен, так как он касается Kunstgewerbe и их взаимоотношений с живописью. В самом деле, именно в среде декоративного искусства начала века выдвигалась идея абстракции как «безраздельной вотчины орнаменталиста» и в качестве свободного от всякого натурализма выразительного языка пропагандировалась абсолютная автономия цвета. В начале VI главы «О духовном в искусстве» под названием «Язык форм и красок» Кандинский цитирует статью Карла Шеффлера, которая, судя по всему, оказала на него глубокое влияние36. В этой статье Шеффлер, исходя из того, что «каждый наделенный чувствами человек спокойно развивает свой собственный символизм цвета, каковой есть нечто большее, нежели произвольная игра», говорит о существовании своего рода языка и даже лингвистики цветов, приводящей на память символистские соответствия и, в частности, сонет Рембо «Гласные»37. И, огласив эту предпосылку, призывает к употреблению цвета в качестве абстрактной и независимой сущности, которую искусства должны открыть и научиться использовать. Согласно Шеффлеру, все способствует тому, чтобы это открытие произошло в контексте декоративного искусства, а не в пределах собственно живописной традиции.
Но Кандинский, еще с 1904 года занятый поиском «языка цветов», который впоследствии станет для него основанием перехода к абстракции, никогда не связывал свою деятельность с декоративным искусством38. Тот факт, что немецкая традиция трактовала Kunstgewerbe и живопись в едином комплексе, несомненно, позволил ему прислушаться к размышлениям Шеффлера, не заподозрив его в смешении жанров. Вопреки своему символическому значению, вопреки «определенной внутренней жизни», искусство орнамента — говорит он — способно вызвать «лишь очень слабое ощущение, едва выходящее за пределы нервов». Именно ради того, чтобы избежать смешения живописи с орнаментальным искусством, Кандинский откладывает на будущее переход к чистой абстракции, стремлением к которой пронизана тем не менее вся его книга39. Тем, что вскоре позволит совершить этот переход, станет принцип внутренней необходимости, в нескольких местах определяемый Кандинским как «непосредственное давление на душу»40.
Таким образом, если следовать в тексте его кни^ ги аргументации шага, который художник совершит уже после ее окончания, есть потребность в том, чтобы истинный язык и истинная грамматика цвета, призванные лечь в основу абстракции, дабы она была не просто орнаментальным искусством, содержали в себе собственную «внутреннюю необходимость».
И тут выходит на сцену слово—-в абзаце, который отнюдь не случайно завершается отсылкой к Метерлинку: «Слово есть внутренний звук. Этот внутренний звук частью (а может быть, и преимущественно) порождается предметом, которому слово служит именем. Но когда предмет сам по себе не находится перед глазами слушающего, только имя его, тогда в голове слушателя возникает абстрактное представление, дематериализованный предмет, немедленно вызывающий в „сердце" некоторую вибрацию. [...] Наконец, при многократном повторении слова (излюбленная, впоследствии забываемая игра детских лет) оно теряет внешний смысл обозначения предмета; таким путем теряется ставший даже отвлеченным смысл называемого предмета и остается обнаженным от внешности исключительно чистый звук слова. Быть может, бессознательно слышим мы этот «чистый звук» в сочетании его с реальным, а также ставшим впоследствии отвлеченным предметом. Но в случае его обнажения этот чистый звук выступает на первый план и оказывает непосредственное давление на душу»41.
Итак, слово может «оказывать непосредственное давление на душу», а значит, и повиноваться своей собственной «внутренней необходимости» при условии, что, с одной стороны, «возникает абстрактное представление» (если мы лишь слышим имя), а с другой —что этот «ставший отвлеченным смысл» исчезает и «остается [...] исключительно чистый звук слова». Этот абзац, довольно-таки причудливым образом согласующийся с противоречивой исторической задачей, которую живопись накануне поворота к абстракции наследует у символизма,—я имею в виду тенденцию к редукционизму, вслед за маллар-меанским пуризмом определяющему специфичность каждого искусства через присущие только ему означающие, и в то же время к синкретизму, стремящемуся укоренить в теории соответствий и вагнеровском Gesamtkunstwerk некую эмоциональную трансспецифичность, объединяющую искусства в едином притязании,—так вот, этот абзац позволяет слову, и в частности имени цвета (так же как в других, более частых у Кандинского, случаях — музыкальному элементу) служить обратной метафорой, допускающей возможность языка живописи, чья специфичность между тем едва ли сводима к словам и наименованиям. «Слово „красное11 [...] Красное, не видимое материально, но абстрактно мыслимое, рождает известное точное или неточное представление, обладающее известным чисто внутренним психическим звуком»42.