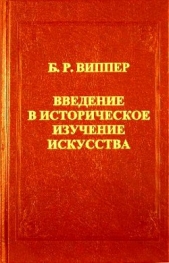Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
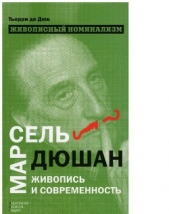
Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность читать книгу онлайн
Предметом книги известного искусствоведа и художественного критика, куратора ряда важнейших международных выставок 1990-2000-х годов Тьерри де Дюва является одно из ключевых событий в истории новейшего искусства - переход Марселя Дюшана от живописи к реди-мейду, демонстрации в качестве произведений искусства выбранных художником готовых вещей. Прослеживая и интерпретируя причины, приведшие Дюшана к этому решению, де Дюв предлагает читателю одновременно психоаналитическую версию эволюции художника, введение в систему его взглядов, проницательную характеристику европейской художественной сцены рубежа 1900-1910-х годов и, наконец, элементы новаторской теории искусства, основанной на процедуре именования.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Мюнхене первым отдает должное кубистам Кандинский. Повинуясь динамике сецессионов, он и Яв-ленский выходят в 1909 году из «Художественного союза» и основывают «Neue Künstlervereinigung»12, который два года спустя познает общую сецессио-нистскую судьбу, когда Кандинский сложит с себя полномочия его главы, чтобы с новыми единомышленниками основать «Синий всадник». И в этот «Новый союз художников», на выставке которого в 1910 году экспонировались картины Брака и Пикассо, вошли двое французов — Ле Фоконье и Пьер Жирьё13. Это практически единственное напоминание о кубистах в Мюнхене начала 1910-х годов, и оно опять-таки связано с движением, которое позже получит название «Синий всадник», ни в коей мере не свидетельствуя о существовании того самостоятельного авангарда, каким кубизм был во Франции Какое иное свидетельство французского присутствия мог заметить Дюшан в художественном Мюнхене 1912 года? В начале года Новая Пинакотека приняла в дар значительную коллекцию нового французского искусства, собранную скончавшимся незадолго до этого Гуго фон Чуди, человеком широкого художественного кругозора, в бытность его директором Национальных музеев в Берлине, а затем в Мюнхене. Охватывая период от Курбе до Матисса, дар Чуди отразил всю историю импрессионизма, а в последующем искусстве сделал акцент на неоимпрессионизме Люса и Синьяка, сразу вслед за которым следовал в коллекции Матисс14. Этот факт можно рассматривать как единственный противовес холодному приему импрессионизма в Мюнхене, свидетельствующий о своеобразном историческом пропуске: еще не будучи принят академическими кругами и уже будучи отвергнут «Синим всадником», импрессионизм из собрания Чуди получил статус музейного искусства. Вместе с тем предлагая, как и всякое музейное искусство, свое прочтение истории, он вел не к кубизму, а к дивизионизму и фо-визму, то есть к тому искусству и тем теориям цвета, в которых выходцы из другой традиции Франц Марк и Кандинский найдут серьезную поддержку для своей практики.
Таково в самых общих чертах «состояние художе-ственных проблем и практик», предшествующее возникновению «Синего всадника», которое Дюшан обнаружил вскоре по приезде в Мюнхен. Разумеется, оно не могло явиться ему с отчетливостью синтетической картины, которая приобрела стройный вид по прошествии времени. Оно носило характер климата с подразумеваемой этим словом долей расплывчатости, не поддающейся теоретизации, но и с его способностью воздействовать на интуицию. Мне кажется, что молодой художник, впервые покинувший среду, в которой он сформировался, должен быть особенно чувствительным к подобному климату или во всяком случае к тому, что отличает его от климата его родины. Поэтому позволительно предположить, что Дюшан почерпнул нечто в Мюнхене —посредством, скажем так, осмоса,—и почерпнутое им выразилось в ряде сделанных для себя допущений. Они таковы:
1. — Сезанн не является в Германии совершенно непризнанным, но он «неверно интерпретируется» немецким искусством. Сам Сезанн, конечно же, с негодованием отверг бы ассоциацию его имени с именами Ван Гога и Гогена: об этом свидетельствуют его резкие возражения Эмилю Бернару, которого восхищали все трое15. Точно так же ее отвергли бы и кубисты, считающие себя законными наследниками Сезанна. Насколько история французского авангарда проходит через Сезанна и сезаннизм, настолько история немецкого авангарда идет иными путями, на которых препятствие-Сезанн ей не встречалось. Будучи в конфликте с этим препятствием, подлинным именем-отца, молодой Дюшан мог почувствовать от пребывания в Мюнхене, которое, как он признавался позднее, «послужило поводом для его полного освобождения», облегчение: возможна другая история живописи, не обязанная постоянно оглядываться на Сезанна. Необходимость вытеснять и сублимировать эдиповский конфликт с мастером из Экса может быть частично снята. Цензура, которая направляла движение его желания стать живописцем вдоль ассоциативной линии «женщина — живопись», может ослабить бдительность, и вытесненное означающее Сюзанна/Сезанн может вернуться, вызвав откровение, о котором я уже говорил. Мы никогда не узнаем, так это было или не так. Единственное, что мы можем сказать, это что гораздо более спокойное отношение к Сезанну в мюнхенской художественной среде могло создать благоприятные условия для подобного биографического события. Располагая живописным фактом —я имею в виду «Переход от девственницы к новобрачной»,—и его интерпретацией в том виде, в каком я представил ее выше, мы можем соотнести его с этой особенностью мюнхенского климата и заключить, что он произвел на картину воздействие.
2. — Мюнхенское восприятие импрессионизма и кубизма подкрепляет это заключение. В числе того немногого, что роднит Дюшана с Кандинским, их отношение к импрессионизму, который они оба осуждают: один — как «сетчаточную живопись», другой — как «натуралистическую». Но если в Париже это суждение, общее также для Глеза и Метценже, направит кубистов к отстаиванию реализма представления в противовес реализму зрения, то в Мюнхене оно приведет Кандинского к абсолютному отказу от всякой идеи реализма. Подобным образом, следствием парижско-кубистской интерпретации импрессионизма станет отказ от цвета, сочтенного слишком декоративным и содержащим очень мало представления. А в Мюнхене — наоборот: Кандинский и Марк освободят цвет именно потому, что его автономия по отношению к изображаемому предмету покажется им наилучшим подспорьем новой концепции живописи, свободной от всего сетчаточного. Да, опорой для этого им послужит связанная с цветом чуждая импрессионизму теоретическая традиция, которая приведет их к идее языка эмоций и своеобразного кода выразительности цветов, каковая во французской живописи отсутствует. И это тоже благоприятная ситуация для Дюшана. В предшествующий Мюнхену год он, приобщившись к кубизму, тут же с ним разошелся. Невзирая на желание преодолеть его «побыстрее», он остался для Дюшана предметом оглядки. Ни Делоне, ни Купка, которые почти у него на глазах работали над тем, чтобы уйти от кубизма через цвет, судя по всему, не привлекли его внимание и тем более не оказали на него влияния. Именно здесь, в Мюнхене, он открыл цвет —в климате, свободном от авторитета кубизма и характерного для него вытеснения цвета. Будем, однако, усматривать в этом только допущение, но ни в коем случае не влияние. Дюшан не стал колористом. И тем не менее именно в результате совершенно особой рефлексии над цветом и практики цвета возникла —в точке скрещения двух теоретических традиций, нашедших отзвук друг в друге,— идея «живописного номинализма».
3- — Вследствие динамики сецессионов мюнхенский авангард не находится с академизмом в том резком противостоянии, которое характеризует парижскую сцену. И начинать с чистого листа ему не приходится. В Париже художник-новатор сначала оказывается отвергнут, обвинен в «неискусстве». Отсюда конфликт личностей, стилей и идеологий, выливающийся в конфликт институтов, поскольку именно официально утвержденное имя искусства всегда конфликтует со своим соперником. Когда постфактум провокация художника признается и удостаивается имени искусства, она тем не менее тянет за собой коннотации «неискусства», связанные с ее отклонением. Так создается обманчивый образ истории искусства, которая «движется вперед» не иначе, как включая в себя наслоения самоотрицаний, словно изменить традицию означает стереть ее из памяти и словно гарантировать себе будущее можно лишь сбросив со счетов прошлое. Динамика сецессионов не порождает подобной иллюзии чистого листа. Она оставляет место провокации в определенном нами выше смысле забегающего вперед требования признания, но, поскольку художники выступают здесь с инициативой раскола, а не институты —с инициативой отклонения, провокация выглядит не столько как попытка уничтожить традицию вообще, сколько как разрыв с уже мертвой традицией. Для живописцев мертвая традиция иначе именуется «искусством музеев». Там, на своем месте, она заслуживает уважения, не вызывает с их стороны никакой агрессии и остается доступной для новых живописных интерпретаций. Для авангарда, функционирующего по модели сецессиона, технический и эстетический разрыв с традицией не является движущей силой современности и даже не выглядит таковым.