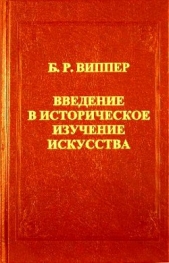Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность
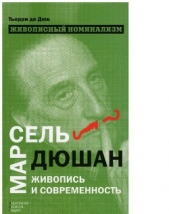
Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность читать книгу онлайн
Предметом книги известного искусствоведа и художественного критика, куратора ряда важнейших международных выставок 1990-2000-х годов Тьерри де Дюва является одно из ключевых событий в истории новейшего искусства - переход Марселя Дюшана от живописи к реди-мейду, демонстрации в качестве произведений искусства выбранных художником готовых вещей. Прослеживая и интерпретируя причины, приведшие Дюшана к этому решению, де Дюв предлагает читателю одновременно психоаналитическую версию эволюции художника, введение в систему его взглядов, проницательную характеристику европейской художественной сцены рубежа 1900-1910-х годов и, наконец, элементы новаторской теории искусства, основанной на процедуре именования.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но в нашем случае — при переходе от до-Дюша-на к после-Дюшана — мы можем попытаться понять, каким образом провокация стала значимой тактикой в истории живописи, которую все заставляет нас определить как историю, по сути своей стратегическую. Приведу единственный критерий, который, на мой взгляд, позволяет провести различие между подлинным художником и шарлатаном. У подлинного художника новшество или провокация, будучи сколь угодно стратегическими, никогда не являются всецело умышленными; их источник —во многом невольное открытие им пластических «ценностей», которые еще не считаются ценностями. Можно сказать, что художник повинуется своему таланту или гению, своей интуиции, своим влечениям или бессознательному—термин не имеет значения; так или иначе, он повинуется толчку, ни происхождение, ни цель которого ему не ведомы, но который заставляет его преступить господствующий вкус —не потому, что он господствующий, а потому, что художник черпает свою уверенность художника в создаваемом им радикальном новшестве. В таком случае провокация должна пониматься буквально — как опережающее события требование.
Требование чего, если не имени «искусство» или «живописец»? Чем больше в жесте художника провокационности и «антихудожественности», тем яснее должно быть, что по сути он является яростным и подчас патетическим требованием признания. И, коль скоро это признание выражается скорее в присвоении имени, чем в суждении согласно ценностной шкале, художник-провокатор требует имени для своего произведения. Кто может дать ему это имя? Конечно же, зрители, и непременно последующие, то есть потомки, пусть и самые ближайшие. Отсюда ясно, что говорить о провокации — и в отдельных случаях о наиболее интересной, значимой провокации — как художественной стратегии имеет смысл лишь в отношении определенного исторического периода, как раз того, который соответствует феномену авангарда. В самом деле, условия возможности провокации как значимой стратегии —это условия, очерчиваемые временными законами авангарда, эволюцией и историчностью, необратимостью и возвратным действием. Опережающее события требование имени «живописца» или «искусства» имеет смысл исключительно в рамках культуры, управляемой необратимым временем и формируемой в качестве культуры возвратным движением.
Более того. Провокация приобретает ясный тактический смысл в рамках художественной стратегии только тогда, когда такая культура становится в некотором смысле прозрачной для самой себя, когда ей открываются два ее временных закона. Эта прозрачность достигается с одновременным появлением институтов, одни из которых можно назвать отсталыми, а другие —передовыми. Порицание, вызываемое новым произведением со стороны одних, обозначает в этом случае — вследствие структурного деления модернистского художественного пейзажа — почти-признание его другими. И договор об имени, какового требует провокационное произведение, подобен Янусу: с одной стороны он имеет черты консенсуса, а с другой —черты несогласия.
Этот глубокий, сложный парадокс оказал значительное влияние на художественную теорию и практику. Как эстетическое суждение может действовать одновременно в перспективе консенсуса и в перспективе несогласия? То, что у нас имеется историческое объяснение парадокса, ничуть не уменьшает его парадоксальности—той, какою она переживается в эстетическом опыте художников и зрителей, но вместе с тем и той, какою она должна учитываться теоретической эстетикой20. Сосуществование художественных институтов, сообщающих истории искусства неравные скорости, объясняет парадокс исторически. Социологически же он объясняется тем, что отнюдь не одни и те же социальные группы соглашаются по поводу того или иного академического произведения и по поводу произведения авангардистского. Можно, таким образом, очертить границы согласных групп, между которыми царит несогласие. И тем не менее эстетическое суждение, провоцируемое во всем общественном пространстве, стремится одновременно и к согласию, и к несогласию. Для того общества и того исторического периода, которые породили феномен авангарда, в эстетическом суждении «от природы» совмещены призывы к согласию и несогласию. Но эта одновременность —которая, конечно же, не случайно стала около 1912 года для ряда художников, в частности для Делоне, основой нового живописного «изма»21,—уклоняется от какой бы то ни было эмпирической регистрации. Стоит ей выразиться во фразе «это —живопись», как эстетическое суждение, требуемое провокационным произведением, оказывается договором без временной привязки. Оно произносится в настоящем времени, хотя это настоящее время —единственное, радикально им отвергаемое, поскольку оно разрывает договор по поводу того, чем была живопись, и вновь заключает договор по поводу того, чем она будет. В промежутке нет места для бытия живописи, там есть лишь переход, сверхузкое пространство чистого именования.
Попытавшись не отступать от этой точки перехода, мы могли бы понять вслед за Дюшаном, что родиться живописцем означает в то же время объявить о смерти живописи. «Подступ к символическому», первичное именование живописи, открывшееся Дюшану в «Переходе от девственницы к новобрачной», подобно черте основополагающего fort/da. Дюшан, как я уже говорил выше, разыграл вынужденную карту — карту смерти живописи. Можно ли пережить эту смерть иначе, чем тот ребенок с катушкой, который переживает отсутствие матери, возвышая его до вторичной власти символа?
Язык существует, живопись всегда уже названа — такова ситуация, в которой рождается живописец. Договор уже заключен, по поводу слова «живопись» существует некоторое согласие, в котором он не участвовал. «Живописью» может называться только живопись в прошлом, уже мертвая, лишенная способности спровоцировать несогласие. Каким же образом живописец рождается к своему имени живописца? Прежде он должен уничтожить живопись, разорвать договор и отобрать имя, вызвать несогласие. Эта провокация — не что иное, как требование возврата имени и предвосхищение нового консенсуса, то есть создание живописи, живой лишь на время отсрочки, которую она дает себе, предвосхищая собственную смерть. Реди-мейды удостоверят эту истину после того как Дюшан, вернувшись из Мюнхена, скажет себе: «Марсель, довольно живописи. Пора искать работу!». Но она угадывается во всех своих следствиях уже в Мюнхене, когда напряженный эстетический опыт «Перехода от девственницы к новобрачной» отливается во временную формулу, зашифрованную в названии картины, которая открывает Дюшану символическое как таковое.
1
«Набросок [научной психологии]» (нем.). — Прим. пер.
Возможно, нет оснований утверждать, что через эти свои сопротивления Фрейд открыл сопротивление как таковое или что сновидение об инъекции Ирме позволило ему понять, прежде всего прочего, что сновидение осуществляет желание. Предполагалось даже, что тезис о сновидении как осуществлении желания возник до сна об инъекции Ирме ( Grinstein А. Sigmund Freud’s Dreams. New York, 1968). Но, так или иначе, это не противоречит моей гипотезе: первоочередность, которую я имею в виду, не обязательно должна быть хронологической, она выражается в постоянном оттенке того внимания, которое Фрейд уделяет психическим образованиям.
Lacan J. Du sujet de la certitude//Le Séminaire. Livre XI. Op. cit.
P. 36-37.
Merleau-Ponty М. Le doute de Cézanne//Sens et non-sens. Paris: Nagel,
1948. P.34-35 (курсив мой,—Т.Д.).
2
Имеет в качестве содержания саму себя (англ.). — Прим. пер.
3
ю. Естественно, я имею в виду причину в обычном, детерминистском понимании этого слова, а не в том внутреннем смысле, согласно которому Лакан видит в ней принцип неопределенности, который парадоксальным образом — немного иронии в адрес Гейзенберга — оказывается принципом уверенности.
GleizesA., Metzinger J. Du cubisme. Paris: Compagnie française des arts graphiques, 1947. P-34- Это мнение разделяет и Аполлинер: «Курбе —вот отец новых художников» (Apollinaire G. Les peintres cubists. Paris: Hermann, 1980. P. 69).