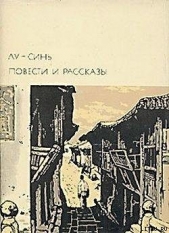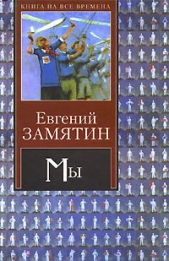Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
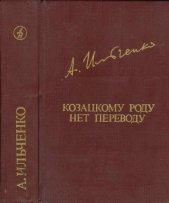
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Какие денежки? — предчувствуя недоброе, еще тише вопрошал пан Куча.
— Те денежки, что причитаются мне за поиски клада.
— Вы ж еще не начинали!
— Не начинал. А чтобы мне захотелось начать, я должен взять в руки мои триста дукатов.
— После!
— Тогда и искать мне захочется после.
— А вы ищите без хотения. По обязанности!
— Э-э, добродию! Искание кладов что любовь к женщине — без желания, а лишь по обязанности… сие неинтересно. Это все одно что вирши писать — по обязанности, без вдохновения. Нет-нет! Выкладывай, вельможный пане, денежки!
— Сколько же?
— Триста.
— Все сразу?
— Все. А потом… треть того, что мы найдем, будет, как условились, моя.
— Вы же сказали: четверть!
— Не помню.
— А вы вспомните.
— Вы хотите, чтоб я такое вспомнил, от чего у вас в носу закрутит, как от красного перца!
— Что вы имеете в виду?
— Кое-что имею. Я когда-то видел вас в городе Львове… в тот самый день, когда вы тишком, пане…
— Что?!
— Стали тайным католиком. А?.. Давайте денежки. Триста. Дукатов.
И вскоре, считая золотые кружочки, пан Раздобудько нахально спросил:
— Значит, одна треть? Иль, может… память у меня… того… Иль, может, половина?
— Треть! — испуганно согласился пан Куча-Стародупский.
— Пишите бумагу.
— О чем?
— Пишите: «Я, Демид Пампушка-Стародупский, потомственный шляхтич, мирославский обозный, подписываю рукою собственной: отдать пану Овраму Раздобудько треть всего добра, которое…» Почему ж вы не пишете, пане полковой обозный?
— Руки дрожат.
— От скаредности?
— От нынешних переживаний, пане Овраме. Сами видели вы, что я пережил сегодня на базаре от этих распроклятых лицедеев! Как же можете вы, пане, так сразу…
— Поговорим завтра. А сейчас…
— Сейчас я могу думать лишь об одном: как отплатить этим мерзким вертоплясам.
— Обмозгуем вместе, пане Демиде. — И кладоискатель, сев к столу, быстренько стал что-то писать на листке бумаги. — Можно навыдумывать столько всяких пакостей против комедиантов… — говорил искатель кладов. — Особенно если за это дело взяться таким живым умам, как мы с тобой, пане полковой обозный, — продолжал Оврам, переходя на «ты». — Сегодня бросим их в темницу… а там… там можно будет…
— Нет, не можно, — с явным сожалением вздохнул Демид Пампушка. — Эти анафемы, весь базар, весь город, вся эта взбудораженная войной голытьба, что привалила в наш Мирослав, да они темницу разнесут и всех гайдуков уничтожат, если велю я схватить лицедеев.
— Так, так, — продолжая писать, молвил пан Оврам Раздобудько.
— И всякий скажет: это месть за глумление надо мною на базаре.
— А как же! — охотно соглашался кладоискатель, не переставая писать.
— Надо бы такое придумать, — размышлял обозный, — чтоб вертоплясам сначала и на ум не пришло, что все эти напасти идут от пана Стародупского-Пампушки. А затем пускай уж…
— Да-да! — решительно поддержал обозного пан Оврам и, посыпая песком написанное, легко поднялся. — Сейчас я скажу тебе, что надо сделать с этими лицедеями. — И, весело напевая, щеголеватый панок одобрительно покачивал головой, додумывая какие-то подробности, проверяя искусно сотканную нить своего умысла, пробовал — крепка ли. Наконец сказал: — Уже! — И Оврам, изобретательный и осторожный, как все искатели кладов, стал о чем-то шептать на ухо пану обозному, от чего Демид Пампушка, слушая, даже подскакивал в нетерпении, даже крякал басом, даже пищал тоненьким птичьим голоском, а потом зашелся смехом.
— По душе? — самодовольно спросил кладоискатель.
— Здорово!
— А пока подпиши.
— Что такое? — обрывая смех, спросил Пампушка-Стародупский.
— Бумага. Та самая. Держи перо!
И пан Пампушка взял перо.
— Пиши, пиши!
И Стародупский подписал свое отречение от трети запорожского золота.
А потом сказал:
— Чтоб никто о нашем сговоре не знал! Чтоб ты, да я, да бог, а больше никто!
А бог на небе молвил апостолу Петру:
— Всякие пакости несут к богу да к богу!
— Сами приучили, господи, сами.
— Два поганца сговариваются там про какое-то непотребство…
— А один — не поганец, господи.
— Кто же?
— Муж божьей угодницы Роксоланы.
— Это который?
— Тот лысый.
— Люблю лысых.
— То — пан Куча.
— Куча чего?
— Куча ладана.
— Чем же тот лысый угодил нам?
— Неужто вы успели забыть ту здоровенную кучу ладана, которая…
— В степи курилась? Их же там было двое? Сегодня мы обоих у лицедеев на представлении видели? Двух толстопузых! Но… погоди-ка, Петро! Ты спускался туда в тот день и сказал мне, что подле кучи ладана была некая хорошенькая бабенка? А? Так кто ж из них угодник? Те двое лысых? Или та краля? Все ты перепутал!
— Старею, господи!
— Мало пешком ходишь, Петро.
И господь велел:
— А ну обувайся!
— А?
— Ступай пройдись! Разведай. Проверь.
— Ну что ж! По земле и в небе скучаешь.
— Так чего ж ты сидишь?
— Еще стародавние римляне говорили: «Поспешай медленно», festina lente! Кто это сказал? Октавиан Август?
— Иди, иди!
— Я вот опять задумался: ты, боже мой, милостью своей оделяешь не умнейших, не отважнейших, не чистейших, а тех токмо, кто кадит, кто хвалу тебе воздает. По твоему примеру, боже, и все земные правители творят, все короли, цари и гетманы. А попы и ксендзы, бессовестные и распутные, отколь им позвенят мошной, туда и поворачиваются, черт бы их всех сожрал! — И святой Петро умолк. — Вот так и во всем земном хозяйстве, господи! Ты меня посылаешь разведать, кто из сих поганцев воскурил тебе столь щедрую хвалу и кто из них — угодник божий? А?
— Вот и ступай.
Святой Петро поскреб затылок:
— Я ныне еще и не обедал, господи.
— Иди, иди! Там пообедаешь. На земле!
И святой Петро, кое-как обувшись, подался вниз на грешную землю, где шла война, попал ненароком на сторону однокрыловцев и долго слонялся, не в силах выяснить, кто же тогда воскурил господу столь щедрую хвалу, и проголодался старый Петро, и, проходя мимо поварни гетмана Гордия Гордого, когда челядники куда-то отвернулись, украл там — ей-богу ж, правда! — кусок житного хлеба, и за милую душу съел без соли, сухой и заплесневелый, чуть не подавился краденым, хоть никто там, на кухне гетмана Однокрыла, пропажи и не заметил, ибо никому тот заплесневелый кусок не был нужен, — да совесть допекала апостола больше, чем изжога от несвежего хлеба, и святой Петро, оставив порученное ему дело, воротился к господу богу — покаяться.
— Негоже, что украл, — ответил бог. — За это ты повинен три месяца отслужить у пана Однокрыла на кухне.
— Служить такому мерзавцу! — ужаснулся Петро.
— Крал бы хлеб у другого, другому бы и служил.
— Я искал, кто побогаче, чтоб не оставить без ужина какого-нибудь горемыку. А теперь…
— Ничего, Петро, не поделаешь…
Святой Петро пригорюнился.
Да и что он мог супротив бога сказать!
Рад не рад, а через час он был на панской поварне в доме самого гетмана Однокрыла (кроме панской там были еще кухни — людская и собачья), и поставили нового слугу потрошить зарезанных на ужин гусей.
Хочешь не хочешь, а работать надо, и дед Петро Приблуда, как он должен был эти три месяца прозываться, взялся, как семнадцать веков тому назад, за черную людскую работу на земле, забыв о своем видном месте в небесной номенклатуре (если сказать по-католически), то есть в святцах (если вспомнить название православное).
Смолоду апостол Петр был человеком простым, рыбаком, и, даже отвыкнув за столь долгое время от честного человеческого труда, усердно принялся потрошить гусей для гетманского обеда на троицын день, но тут постигло его первое огорчение.
В гетманской куховарне бушевало столько пара и дыма, что святой Петро привычно чувствовал себя, словно в небесах, да и нравилось, что за теми облаками его не так уж и видно было, ибо хотелось допрежь всего привыкнуть к новой обстановке и к человеческому труду — без надзирания чужого пристального глаза.