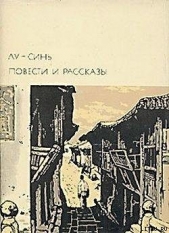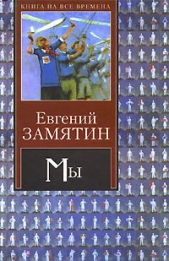Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
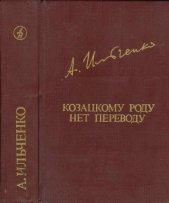
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прижал его к сердцу и Пилип-с-Конопель. И сказал:
— Я бежал из Франции, бежал от того же врага. Родной мой Руан еще и доселе кипит после восстания «босоногих», которое мне довелось видеть мальчиком. Да и моя сабля славно потрудилась при мятежах Фронды против власти короля. А мой язык… он, правда, поострее сабли… однако же уступит твоему лицедейскому языку!
— Про что ты? — спросил Прудивус.
— Ты так неосмотрительно посмеялся вчера над паном Пампушкой, мон шер, что правильно теперь поступаешь, уходя прочь из Мирослава. Однако же и там…
— Черти меня не возьмут! Я всего лишь спудей…
— Ты идешь как воин!
— Но без оружия.
— А твой язык? А смех? А это письмо? Не оружие ли? А потому… осторожнее смейся! — И, схватив все тот же роман Сореля, стал торопливо листать странички. — Вот… вот послушай, что есть оружие смеха! — И Филипп Сганарель, тут же переводя творение своего язвительного земляка и современника, начал читать восьмую главу — «Коль скоро из всех животных смех свойствен одному только человеку, то я не думаю, чтоб он был дан ему без причины и чтоб не разрешалось ни самому смеяться, ни смешить других. Правда… большинство презирает шутки, не ведая, что нет ничего труднее, как преуспеть в сем деле…» — И Филипп, перевернув страничку, читал, переводя дальше: — «И я знаю очень глупых людей, которые не извлекут из моего сочинения никакой пользы и вообразят, что я писал это лишь для их развлечения, а не для того, чтоб исправить их дурные нравы. Вот почему мне скажут, что для предотвращения всего этого я мог бы прохватить пороки похлестче… но… в наше время не любят голой правды, и я почитаю за аксиому, что надлежит иногда попридержать язык, дабы говорить подольше, сиречь, что бывают такие эпохи, когда полезно умерить злословие из опасения, как бы сильные мира сего не причинили вам неприятностей и не приказали приговорить вас к вечному молчанию. Я предпочитаю поступиться своими остротами, нежели своими друзьями, и хотя питаю склонность к сатире, однако же стараюсь облечь ее в столь приятную форму, чтоб даже те, кого я задеваю, не могли на меня обидеться. Но… будут ли в конечном счете оценены мои старания?.. Из всех, кого я знаю, лишь очень немногие обладают достаточно здравым умом, чтоб судить об этом, прочие же только забавляются порицанием вещей, прелесть коих они не способны понять. Когда предаешь книгу гласности, то следует поставить в книжной лавке швейцарцев, дабы они защищали ее своими алебардами, ибо всегда найдутся бездельники, готовые критиковать всякое печатное слово и желающие, чтоб их почитали знатоками за то, что они говорят: «Это никуда не годится», хотя и не могут привести никаких доводов. Ныне всякий хочет корчить из себя любомудра, несмотря на то что невежество никогда так не процветало, как в наше время, и не успевает школьник почувствовать себя в безопасности от розог, как, одолев три-четыре французские книжки, он сам принимается писать и почитает себя способным превзойти остальных. Все это было бы ничего, если б не унижали ближнего для того, чтоб доставить себе почет, а к тому же не отбрасывали всякую стыдливость и не силились найти недостатки там, где их нет… Если б меня все же вздумали хулить, то потеряли бы время, желая критиковать того, кто является критиком других: стоит ли тупить зубы о напильник?»
Пилип-с-Конопель, может, читал бы и далее, когда б лицедей Прудивус не прервал его вопросом:
— Ты со всем тем согласен, братику?
— Не со всем. Я просто хочу, чтоб уразумел ты, что за опасная вещь — сатира. Я хочу, чтоб ты, отправляясь в самую пасть врага… чтобы ты был там осмотрительней, мой милый друг.
— Таким, как ты? — ехидно спросил Прудивус.
— За свой острый язык я едва не поплатился головою… там, дома, во Франции. Пришлось вот бежать!
— Ты думаешь, Пилип, тебе удастся меня уговорить?
— Нет, — грустно вздохнул Филипп, — не думаю.
— Тогда зачем же ты…
— Жалко твоей головы. Охота мне встретиться с тобой еще в сей жизни, а не в загробной.
— Отчего бы нам и не встретиться!
— Война!
— Я в свою смерть еще не верю, — усмехнулся Прудивус и предложил: — «Эрго бибамус!» На дорожку.
— Пропустим! — поддержали спудеи.
— Дай бог счастья, — благословил Игнатий.
— Эй, шинкарочка, — позвал Иван Покиван, а когда все выпили, сердито буркнул: — Я пойду с тобою.
— Куда… со мной? — удивился Прудивус.
— На ту сторону. В стан однокрыловцев.
— Вот та́к вдруг?
— Да не вдруг, — улыбнулся лицедей. — Послушав сие хитроумное чтение про небезопасность сатиры, я понял, что надобно идти вместе. Чтобы там… силу смеха, силу дара божьего… поставить противу бесчестных замыслов гетманишки, Гордия Гордого, дабы весь простой народ узнал: на чьей стороне правда, на чьей стороне сам пан бог! А наша привселюдная комедия…
— Какая же комедия, коли мы с тобой, Иван, только вдвоем!
— Я пойду с вами, — подал голос и Пришейкобылехвост, и все приятно удивились, ибо никто такого шага от него не ожидал. — Я с вами, други милые! Да! — И пан Данило жеманно поклонился.
— Ну что ж, — не так уж и обрадовавшись, пробормотал Прудивус, затем что недолюбливал товарища и не слишком огорчался близкой с ним разлукой.
— Вот и славно, что все вместе, — заключил простодушный и доверчивый Иван Покиван и поднял ковшик: — Пропустим.
Выпив, вышли на улицу и только сейчас увидели, какой там льет дождь.
— Девкалионов потоп! — угрюмо сказал Пришейкобылехвост. — Может, не сегодня отправимся, а завтра?
Ему никто не ответил.
Шагнуть из-под стрехи было в первый миг не так-то легко, приходилось ведь словно в холодную речку окунаться, и все немного задержались на пороге шинка, спудеи еще и песню затянули, издавна знакомую украинскую песню «I шумить, і гуде, дрібен дощик іде», перелицованную на латинский лад: «Ет тонат, ет бромат, плювіумкве целюм дат: а хто ж мене молодую меум домум редукат?»
Иван Покиван, напевая, подался вдоль стены шинка под стрехою, по некой естественной нужде, как вдруг наткнулся за углом на чье-то тело.
Наклонившись, он пощупал, разгреб мокрую солому, коей тело было укрыто, и убедился, что оно мертвое.
— Света! — крикнул товарищам Покиван.
Спудеи с козаками, отцепив масляный фонарь, что качался от ветра над дверью шинка, посветили и увидели, что окоченелый тот — Панько Полторарацкий, долговязый рыжий козак, который так браво похвалялся переспать с Настею Певиой.
— Переспал! — сорвал с головы шапку Прудивус.
Пока спудеи, растерянные, кликнули Настю-Дарину, пока выпытывали у шинкарки, что могло статься с Паньком и как он угодил туда, где нашел его Покиван, пока шинкарочка начала что-то рассказывать, Панько Полторарацкий вдруг сел и протер глаза.
— Где это я? — спросил он, приглядываясь в тусклом свете к спудеям. — Разве ж и вы все дали — разом со мной?
— Что дали?
— Дуба.
— Тьфу на тебя! — ужаснулся Пришейкобылехвост.
— Ишь чего! — воскликнул и Романюк.
— Я воротился оттуда, — просто сказал Панько. — Только что. Еще и пальцы, видите, не гнутся. Вот-вот — оттуда…
— Откуда? — спросил недавний католический священник.
— С того света, — не обинуясь, отвечал Полторарацкий.
— Чего ж ты вернулся? — спросил и Прудивус.
— Замкнуто там.
— Что замкнуто? — спросил Покиван.
— Ворота в рай, — ответил рудый.
— Как это замкнуто? — удивился гуцул. — Ты что это такое плетешь?
— Святой Петро, вишь, подался куда-то на грешную землю, да и унес от райских ворот золотые ключи.
— Ты при своем ли уме? Болтаешь…
— При своем, — сказал, подымаясь, Панько. — В рай меня не пустили. Вот я и… того… воротился домой. Уж больно много их там… война! А всех, кого убили, — в рай.
— Так тебя ж не убили? — сказал Романюк.
— А отчего я было помер? От горилки же! А все, кто дуба дает от горилки, все они… да вот поспрошайте у пани Смерти. Иль не так, Одарочка? — И он обернулся к Чужой Молодице. — Скажи им, се́рденько! Разве не так?