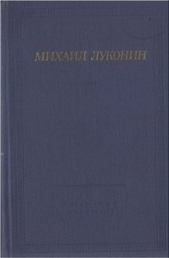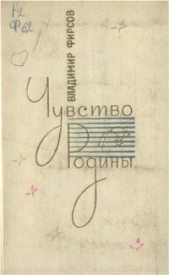Год прошел.
К Сталинграду иду я, встревожен:
«Мать и сестренка на Тракторном были.
Что теперь?»
— «Не волнуйся», — утешает Сережа.
«Знать бы: переправились или…»
День и ночь
к Сталинграду мы идем по Заволжью.
К нам доносится грохот сквозь облако пыли.
Ночью тучи закрыло,
пламя по горизонту.
«Сталинград!»
Мы глядим, примостившись на крыше.
В эту ночь мы пришли к Сталинградскому фронту.
Первый взвод батальона прямо к берегу вышел.
Час на отдых нам.
«Спать!» — приказанье комбата.
В дом стучимся. Темно в переполненном доме.
«Сталинградские дети тут, тише, ребята».
— «Дети?»
— «Вот они, на полу, на соломе…»
Душным заревом взрывов полнеба объято,
гул разрывов доносится слева и справа.
«Поднимайся!..»
— «Нам нету дороги обратно!
Сталинград! Сталинград!.. Город мой!..»
Переправа…
…Лет восьми я узнал,
что родился в России.
Пастухом,
провожая коров на рассвете,
мимо мира, где травы парные косили.
Мне об этом шепнул набегающий ветер,
и звезды тогда рассыпались тут же,
под крышами нахохлились птицы,
и я боялся бегать по лужам,
чтоб в небо
нечаянно
не провалиться.
А мне говорили, что неба немало!
Что мир на России не сходится клином.
И заграница передо мною витала
французскою булкой,
немецкой машиной…
Я не спал иногда, распаленный, в обиде,
тихонько сжимал я усталые веки,
чтобы только хоть ненадолго увидеть
чужеземные страны, чужеводные реки…
Но вражья каска в огороде ржавела,
и сшили узду из трофейного ранца,
и мне не нравилось рыжее тело,
гнилые зубы пленного иностранца.
Ночи неясными снами грозили.
Думал я:
но родись на земле иностранной,
я б тогда ни за что не увидел России,
был бы я у чужих,
не увиделся б с мамой.
Я бы не бегал за телегой вдогонку,
не побывал бы на заревом сенокосе,
никогда не увидел бы нашу доенку
и свинцовые волны на Волге под осень.
Я забывал в ту минуту охотно,
что сестры мои — задиры и злючки,
что доенка не слушается,
бегает к копнам,
а поле, если бежать, подставляет колючки.
Я прощал это всё!
Забирался на крышу
смотреть, как закат опускается, розов;
там мне ветер, тот, что пшеницу колышет,
погладит голову, тихо высушит слезы.
Ветер тянет дымок,
мне лицо утирает;
это ветер степной.
Он ответит, только спроси я:
«А где я родился?»
И ветер от края до края,
от колоса к колосу, шепчет:
«Россия… Россия…»
В семнадцать, слепое волненье осилив,
шептал я косичке, закрученной туго:
«Хорошо, что мы оба родились в России!
Ведь мы же
могли
не увидеть друг друга!..»
И я полюбил Россию, как маму.
Полюбил,
как любимую любят однажды,
полюбил, как парус, набитый ветрами,
как любят воду,
умирая от жажды…
…Я глаза открываю, вижу черное небо.
Голову кружит огненная дремота.
Я проваливаюсь в тяжелую небыль.
Шум в ушах…
«Не вставай!» — мне командует кто-то.
И тут же разрыв бьет песчаной волною.
Хлещет вода, топит в тягостном громе…
Снова тихо. Кто-то рядом со мною.
«Что случилось?»
— «Бомбой нас, на пароме…
Я — Руденко Семен, из вашего взвода.
Ты ранен. Тонул. Прямо там, у парома.
Я доску поймал, помогал вот Нехода.
На доске мы приплыли. Вот мы и дома».
Мы лежим на песке.
Волны падают в ноги.
«Подожди-ка, сейчас приведут санитара».
— «Где Сережа?» — закричал я в тревоге.
В рот мне хлынула гарь бомбового удара.
Я трогаю лоб: «Да, заметная ранка!..»
— «„Фронт второй“ открываю», —
сообщает Нехода.
У него на коленях консервная банка.
«Ишь рисунок! Смотрите — подходящая морда!»
— «Это автопортрет», — произносит Сережа.
«Что ж, воюет союзник, торгует тихонько,
где свининой, где свинством…»
— «Да, личность похожа.
Тут и надпись, смотри-ка: „Свиная душонка“…»
Сережа нашел нас тогда, в том ненастье.
Через неделю я отлежался в санчасти.
Я за домом слежу, за обломками лежа.
Двадцать девятое октября.
«Что за дата?
Не знаешь ты случайно, Сережа?»
— «День рождения твой! Вот забыл, голова-то!»
Двадцать четыре — молодость человека!
Двадцать четыре.
Мы становимся старше.
Середина двадцатого века.
Продолжается биография наша.
День рождения первый —
полыхают зарницы.
Двадцать четвертый —
опять канонада.
Первый день —
побеждает Царицын.
Двадцать четвертый —
битва у Сталинграда.
«Вот судьба, — ребята вздохнули, —
двадцать четыре огненных года!»
Двадцать четыре! — ударяются пули.
Двадцать четыре…
«Посмотри-ка, Нехода!»
— «Идут, — говорит он, — поднимайтесь, ребята!»
Мы через улицу перебегаем рывками.
«Двадцать четыре!» —
выхлопывают гранаты,
и пули то же высвистывают о камень.
«Там вон клен у обрыва водою подмыло,
я когда-то ходил тут в любви признаваться».
Сережа спросил:
«А давно это было?»
— «Двадцать четыре минус восемь —
шестнадцать!»
— «Как же ты день рожденья забыл, голова ты!
Что ж, пожелаю многие лета…»
«Двадцать четыре!» —
обрывают гранаты.
«Двадцать четыре!» —
выплескивает ракета.
«Опять нам срывают твои именины!»
— «Вон, идут».
— «Выходи!»
И от взрыва до взрыва
мы —
вперед и вперед…
«А может, и миной, —
думаю я, —
клен столкнуло с обрыва?!»
Взвод наш испытанный рассыпан не густо.
«Ну, вперед! Ну, еще! Поднимайся, Алеша», —
шепчет Сережа мне.
Я разделся,
но груз-то —
станок пулеметный —
не легкая ноша.
Слева Нехода бежит с автоматом.
«Ура-а-а!» —
и зигзагами приближаемся к дому.
Взводный крикнул:
«Вперед!»
И рванулись ребята.
И бежим мы по кирпичному лому.
Дом гудит.
Мы — по лестницам, пробивая дорогу.
Наш пулемет в оконном проеме,
к фашистам не пускает подмогу.
Вот опять.
«Начинай!» — я командую Семе…
Площадь Девятого января на ладони.
Немцы перебегают, пропадают — и снова
встали.
Сема открывает огонь — и
площадь пенится от огня навесного.
«Вот так так! День рожденья! —
сверху спрыгнул Нехода. —
Из-за этого стоило, пожалуй, родиться!
Ключевую позицию заняли с ходу,
слышали? Благодарит нас Родимцев.»
«Танки!» — крикнул Нехода — и вниз куда-то.
Да, два танка выходят на нас от вокзала.
Сердце дрогнуло.
«Не отступим, ребята!» —
Голос Сережи громом пушек связало.
Кирпичные брызги прянули в спину,
пыль окутала всё.
Сквозь просветы
танки вижу. Вижу немцев лавину.
«Бей, Руденко, пора!»
Он молчит.
«Сема, где ты?..»
Он свалился к стене. Я ложусь к пулемету,
вижу — миной гусеницу распластало.
Мой огонь уложил на булыжник пехоту.
Над танком крутящимся пламя затрепетало.
А от дома на площадь «ура» полетело.
Танк второй повернул — и назад.
«Сема, Сема!»
Я к стене привалил онемевшее тело.
«Стой, я сам. Отошли?»
— «Нет, на месте мы, дома…»
Ночь неожиданно на землю упала.
Собрались мы. Сему перевязали.
«Ну что же,
сколько нас?»
— «Десять с Семою».
— «Мало.
Взводный умер. Нас мало. Командуй, Сережа».
— «Что же делать? Нас мало. Начнется с рассвета».
— «Что ты?! — вспыхнул Сергей. —
Нас почти что полвзвода…»
Я чувствую сердцем тепло партбилета.
«Здесь есть коммунисты!» — поднялся Нехода.
День за днем.
День за днем
мы живем в этом доме.
Мы живем!
И фашисты не вырвутся к Волге!
День за днем
мы живем в этом яростном громе,
и не могут нас выбить фашистские волки!
Ночью седьмого — ноябрьская стужа.
Я вышел на смену продрогшему Семе.
Улегся у пулемета, снаружи.
Ветер холодный насвистывает в проеме…
«.. Я люблю тебя», —
говорил я, краснея,
прямо в ухо, маленький локон отбросив.
И луна поднимается над водою,
чтоб увидеть,
как начинается осень.
Клен повис над потемневшим обрывом.
Листья падают, не могу их собрать я.
А ветер, набегая порывом,
трогает шелестящее платье.
«Нет, ты взгляни, как красиво!»
А ветер всё набегает с размаха.
«Мы могли не увидеться, скажи-ка на милость! —
говорю я
и замираю от страха.—
Спасибо тебе, дорогая отчизна!
Волненье меня затопило наплывом.
Тебе я обязан всем в жизни.
Слышишь, родина, я родился счастливым…»
Выстрелы вспыхнули.
Вижу, что-то маячит…
«Стой!»
— «Свои мы!»
— «Проходите по следу…
Сколько вас? Отделенье? Пополнение, значит!»
— «Мы приказ принесли,
есть приказ на победу!..»
Мы укрылись плащ-палаткой крылатой,
зажигалку я чиркнул движением верным.
«Седьмое. Приказ вот. Трехсот сорок пятый…»
Мы друг к другу прижались,
как тогда, в сорок первом.
«Настойчиво и упорно готовить
удар сокрушительный!..»
Мы откинулись снова.
«Кто подчеркивал тут?»
— «Сам Родимцев, должно быть.
Он газету вручил!»
— «Значит, что-то готово!
Понимаете, раз уж сказано — будет!
Слово нашей армии свято!
Сталинград — мир для мира добудет!
Разбудите парторга Неходу, ребята…»
В ноябре ветер вьется, неистов,
в декабре пальцы греет ствол автомата.
В январе…
«Мы тебя отстоит от фашистов,
Сталинград наш!..»
— «Наступленье, ребята!»
Вода снеговая в неостывших воронках.
Фашистские трупы падают на мостовые,
а лед на Волге потрескивает звонко,
чтобы волжскую воду не увидали живые.
«Ого! Январь! Веселая вьюга!»
Мы вглядываемся в похудевшие лица
и смеемся, узнавая друг друга:
как будто бы выписались из больницы…
«Вот здесь,
ты помнишь, мои именины.
Нет, ты только подумай над этим…
А клен-то, конечно, подрезали мины,
чтоб разлучить нас
с шестнадцатилетьем…»
К станции Котлубань выезжает машина.
«Четыре ноль-ноль.
Что-то нет их, ребята».
— «Значит, ждет их другая кончина,
раз не явились принимать ультиматум…»
Артиллерия грянула сразу —
не попадает камень на камень,
не попадает зуб на зуб,
и в рукава не попадают руками.
И пошли мы обжигающим валом,
волной израненной, но живою,
пока не выполз из штабного подвала
фон Паулюс —
и руки над головою,
пока, прихрамывая, нарушители мира
не потекли по городу вереницей,
без строя, не соблюдая ранжира,
опуская почерневшие лица.
Мы с Сережей у Тракторного завода,
где Мечетка пробирается в иле,
для того чтобы перед новым походом
маленькой поклониться могиле.
Когда-то я шептал, обессилев,
что, родись я в стране иностранной,
я б тогда ни за что
не увидел России,
был бы я у чужих,
не увиделся с мамой.
«Мама моя!
Я с тобой не увижусь.
Я не предвидел опасением детским,
что иная земля пододвинется ближе,
чтоб разлучить нас
фугаской немецкой.
Я прощаюсь с тобой перед дальней дорогой…
Мама, мне рассказать тебе надо…
Идут твои дети неотступно и строго
в наступление от стен Сталинграда.
Мама, слышишь, зовут нас, мы уходим, пора
нам.
Я становлюсь перед могилкою на колени.
Я тебя не увижу…
Прощай, моя мама!..»
Дорога к миру — лучшее из направлений.