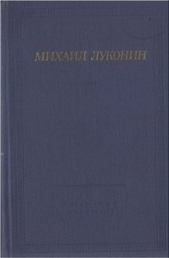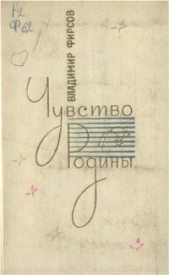Но сначала об этом…
О том,
как в отошедшем году,
расцветающим летом,
я сидел на скамье на Гоголевском бульваре
и завидовал
то ли семье,
то ли просто любящей паре.
«Приехал!» — шептала она.
«К тебе!» — отвечал он.
«Скучал ты? — спросила она.—
Я дни отмечала…
Закончил! — смеялась она. —
Я в газете видала:
ты строгий стоишь там,
над морем огня и металла.
Ты добрый сегодня, средь этих деревьев зеленых…»
(Неприлично, конечно,
подслушивать шепот влюбленных!)
Радиорупор рассказывал о загранице.
Из-за океана
война кулаками стучится.
Фашизм обгоревший
из черного зданья рейхстага,
как вирус,
пролез под крыло
многозвездного флага.
«Опять это самое, слышишь, Алеша? Похоже?»
— «Похоже, — ответил, — так было когда-то;
ну что же,
мы этот фашизм
на войне изучили недаром!
Мы знаем, что нас он боится…
Ты помнишь, Тамара?..»
Дымятся костры на Арбате,
всё в громе и гуле,
лопаты песком сыроватым на площадь плеснули.
На Гоголевском, на Никитском,
и справа и слева,
взвивается грохот и дым трудового нагрева.
Отброшены в сторону каменные мостовые,
ярко желтеют раскрытые недра земные,
лежат у садовой ограды трамвайные рельсы.
Шпалы вынуты.
Кончились громкие рейсы!
Катки расходились туда и сюда, завывая,
всей тяжестью топчут былые дороги трамвая.
А площадь,
ладонь раскаленная,
поле Арбата,
уже засияла широким простором наката.
А дальше пройдись по Москве,
полети над Москвою —
все улицы ширятся и зеленеют листвою.
Страна наряжается.
Праздничны смелые лица.
К коммунистической жизни
готовится наша столица…
Я задумался —
и мечтой уходил постепенно
по лестнице лет,
по пятилетним ступеням.
Я вижу —
пришла к коммунизму передовая колонна,
уже в коммунизме идут знаменосцы,
над ними — знамена…
Серп и молот в колосьях —
герб мира —
проносят колонны.
Советский Союз — впереди,
вослед — миллионы.
В цехах и на поле работа кипит, не смолкая,
высокою целью труда людей увлекая.
Шумят над страной дубравы полезащиты,
от боли защиту нашли,
но больше — ищи ты!
Радиорупор
вещает
об атомных бомбах,
фашисты их за океаном копят в катакомбах,
оружьем гремят, готовя грядущие войны.
Соседи мои на скамейке смеются, спокойны.
«Пора на вокзал нам, Тамара».
— «Алеша, Москва-то!
Двадцать девятое скоро! Октябрь!
Знаменитая дата!»
— «А вот посмотри-ка —
тетради о юности дальней!..»
— «Что такое?»
— «Записки тех лет,
мой дневник госпитальный…»
В руках у нее негромко раскрылась тетрадка,
лицо заслонила веселая светлая прядка.
А радиорупор: «Эскадры… Дивизии… Атом…»
Шли девушки мимо —
новым, широким Арбатом.
Я думал о юности,
о войне,
о разлуке,
мне виделись верные губы
и милые руки,
прощанье мерещилось мне и печальные дети,
потом — возвращение к юности,
к вам
на победном рассвете.
Радиорупор…
Но где же влюбленная пара?
Я ищу их глазами,
выискиваю вдоль бульвара.
Зачем они мне? Но я сожалею тревожно.
«Вот, — думаю я,—
как странно задуматься можно!»
Я поднимаюсь
и замечаю вот эти
тетради,
его дневники,
в пожелтевшей газете.
Беру их, бегу, влюбленных догнать бы:
«Забыли!..»
Ни адреса нет, ни фамилии…
Это не вы ли?
Это не вы написали всё это, ответьте?
Как найду? По какой я узнаю примете?
Это вы, или я, или тот вон высокий прохожий,
на меня, и на вас, и на многих и многих похожий?
Это кто написал?
Не знаю я.
В ясном порядке
эти записки сложились,
тетрадка к тетрадке.