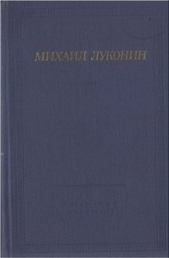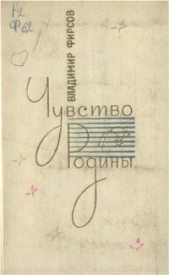«Так учил я полвека. Возьмитесь, сочтите,
скольких я научил. Теперь они держат экзамен.
В огне ты, отчизна!» — вздыхает учитель.
От окна на полу
полоска рассвета меж нами.
Мы сидим в учительской школы начальной,
на каждом окне по географической карте.
«Маскировка?» — говорю я печально.
«Да, — отвечает он, — маскировка, представьте.
Сначала была — от бомбежки завеса,
теперь — от фашиста: он карты не тронет».
— «Помогает?»
— «Да, к школе у них пока что нет интереса,
сейчас их больше привлекает коровник.
Правда, раз навестили.
Разговорились о книге
„Сравнительное изучение черепов и влиянье
их различий на ум“.
Герр профессор Бельфингер
написал ее, как свое оправданье.
По строению черепа преподносится вывод, —
продолжает учитель, — по мнению арийца,
все мы — я вот, все соседи
и вы вот —
обязательно ему должны покориться».
— «Вот как? — говорю я. — Спасибо,
я не знал, что до этой „науки“
додумались люди».
— «Вот поэтому: либо мы уничтожим их, либо…»
— «Нет, товарищ, другого „либо“ не будет!»
— «Вот, смотрите, собрал я.
Это их заготовка,—
шкаф учитель открыл, —
пригодится в учебе!
Смотрите: вот плеть,
вот это клеймо,
вот веревка.
Шкаф фашизма,
отделенье наглядных пособий».
Я смотрю на учителя — вот он стоит перед нами
и в глаза нам заглядывает строже.
«Вижу, — говорю я, — вижу и понимаю!»
— «Да, понятно», — шепчет Сережа.
«Да, понятно, — говорю я. —
Простите.
Мы пойдем.
До своих доберемся лесами.
Мы вернемся сюда. Мы вернемся, учитель!»
Мы вернемся, свобода!
Мы выдержим этот экзамен!
Конец октября, а солнце — как в марте.
Что с Москвой?
Рассказывают, что немцы
кружком ее обводят на карте.
«Что же будет?» — спрашивает сердце.
«Нет!» — повторяет Сережа упрямо.
«А что, если правда?»
— «Алеша, уйди ты!»
— «А что же будет тогда, Сереженька, с нами?»
— «Не знаю», — говорит он сердито.
«Ты мог бы представить: вот Эгонт ударил
тебя. А ты б поклонился, Сережа.
А попробуй произнести это:
„Барин“».
— «Барин», — пробует он и краснеет.
«Не можешь!
А можешь представить:
Эгонт важно и гордо
идет по Москве,
ты — слуга его — сзади.
„Шнель!“ — кричит он на тебя во всё горло,
и ты — вприпрыжку,
чтоб не сердился хозяин.
Глядят на тебя сотни окон,
Тверской бульвар застывает от удивленья,
и Пушкин на площади поворачивается боком,
чтоб не видеть, как ты живешь на коленях…
Не можешь ты быть
ни рабом,
ни рабовладельцем.
Наш свободный удел нам оставлен отцами.
Можешь удержаться,
чтоб не крикнуть всем сердцем;
„Советский Союз!
Наша родина с нами!“…»
— «Нет, не буду молчать я,
ты слышишь? —
крикнул Сережа так, что лес зашатало.—
Не буду!..»
Я схватил его за руку. «Тише!
Рядом дорога, тут же немцев немало…»
— «Я русский!»
— «Русский!» — повторили березы.
«Советский Союз!
Ну-ка, немцы, послушай! —
крикнул Сережа
и стал облизывать слезы. —
Смерть фашизму!..»
Листья наземь обрушив,
эхо от дерева к дереву мчится
и слова Сережины по простору разносит,
чтобы слышали небо, и поле, и птицы,
и деревья, наряженные в осень.
Потом тишина неожиданно наступила.
Пулеметное эхо заметалось по веткам.
«Мы продвигаемся к родине, милый!..»
Дождик прикрыл нас сиреневой сеткой.
«Эй, мамаша!»
— «Ух, как испугали, сыночки!»
— «Мы свои, не пугайся, сами пугливы.
Посиди-ка, мамаша, вот тут, на пенечке».
— «Чьи же вы и откуда?
Далёко зашли вы!
К Брянску идете?
Брянск-то, он — вот он.
Брянск давно еще назывался Дебрянском,
дебри тут, бывало, росли по болотам…»
Мы молчим.
Лес сияет осенним убранством.
«Говорят — по дорогам каратели рыщут,
в Брянске люди висят на столбах и балконах…
Говорят — заградители есть,
выслеживают и ищут,
и в тюрьму того, кто пройдет без поклона…»
— «Мы лесами пройдем!»
— «Понаставили мины!»
— «Ночью, городом».
— «Э-э-э… Стреляют в прохожих…»
— «Не сидеть же нам тут,
там мы необходимы!..
Очень вы на мою мамашу похожи».
Мы стоим на освещенной поляне.
Пни вокруг сидят в необдуманных позах.
Лес шумящий оторочен полями,
по вискам убелен сединою березок.
Утро.
Птицы мечутся между сосен.
Тишь, как будто войны не бывало.
В мире, кажется, только и царствует осень,
к зиме выстилая лоскутное одеяло.
«Я-то в город. Хлеб вот в кошелке.
Дочка там голодает. Всё забрали до точки».
— «Кто, мамаша, забрал?»
И ответила колко:
«Уж не знаю и кто,
вам виднее, сыночки…
Вы куда-же? Домой направляетесь, что ли?
Ну, а ружья зачем?»
— «Ох, хитра ты, мамаша!»
— «Ну вас, право! Я ведь так, не неволю…»
— «Понимаешь, — говорю я, — там армия наша!»
— «Что же, не бросили разве войну-то?»
— «Как же бросить? Это только начало!»
— «Значит, врет этот немец, закончили будто…
А Москва как?»
— «Стоит, как стояла!»
— «Или радио есть — всё вы знаете больно?»
«Ну, а как же без радио? Вот оно, слева!..»
— «Значит, вон оно как! —
сказала довольно. —
Теперь уж пойду я! — и шагнула несмело.
Опять постояла. — Ну, бог вам в помогу!
Пойду.
Вы, ребята, — со мною.
Уж я проведу вас. Я знаю дорогу.
Ходила к „железке“ тут каждой зимою».
И пошли мы по тропе за мамашей,
за ситцевым, в складочках, в клеточках, платьем,
дорогой посветлевшею нашей,
в бой торопясь, поскорее к собратьям.
Петляет тропа в самой чаще,
меж стволов необъятных сосновых.
«Не устала?»
— «С чего?»
— «Вы ходок настоящий!»
— «Как же, это известно о нас, Селезневых!—
Так ведет нас за собой проводница.
Лес шумит в осеннем уборе…
— Стойте тут! Не спугнуть бы нам фрица.
Я приду…» И мамаша — в дозоре.
Насыпь уже начинает виднеться.
Вот и мать помахала нам веткой.
«Ну, пошли!
Вон, сыночки, и немцы
на „железке“. Хорошо, что с разведкой!»
— «Ой, хитра ты, мамаша!»
— «А как же!
Часовые фашистские ходят по шпалам».
— «Ничего, мы небось не промажем».
— «Как, мамаша?»
— «Я уже загадала.
Вот, сыночки: я полезу к „железке“ —
бандиты ко мне. Будут зенки таращить.
Вы того, через рельсы моментом,
побойчее, да в сосновые чащи!»
— «Ну, а вы?»
— «Мне-то что, не солдат я.
Чай, глаза-то имеют. Идите, идите!
Добирайтесь и приходите, ребята.
В Брянск вернетесь — Селезниху найдите…»
И ушла вдоль насыпи, раздвигая
ветки маленькою рукою,
в клетчатом платьице, сгорбленная и седая.
Навсегда я ее и запомнил такою.
Вот она завиднелась видением грозным,
подобрав свои юбки, через рельсы шагнула.
Немцы — к ней.
Мы за насыпь — и к соснам,
задыхаясь от сердечного гула.
Уходить не хотели, не увидев мамашу.
Из кустов, притаясь, на дорогу взглянули.
Трое немцев над матерью автоматами машут.
«Хальт!» — кричат, за рукав потянули.
«Не замай! — оглянулась мамаша,
одернула платье,
руку гада кошелкой отбросила смело. —
Что ты с бабой воюешь? Не солдат я!
Тьфу на вашу войну, не мое это дело!»
И пошла себе дальше по шпалам,
и пошла тихонько, покачивая кошелкой…
Встал фашист.
Автомат свой прижал он,
чтобы в нашу Ефимовну
целиться с толком.
А мамаша идет себе, рассуждая.
Фашист опустил автомат,
не понимая чего-то…
Наталья Ефимовна, маленькая, седая,
в клетчатом платье, скрылась за поворотом.