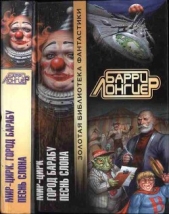Пер. С. Гудзенко
Темная ночь. Отдыхают полки.
Танки заснули в кустах.
Ветер холодный с немецкой реки.
Поле в могильных крестах.
Скоро, начнется последний бой…
В небе из-за леска
Взвился ракеты огонь голубой, —
Значит, атака близка.
И тишина. Отдыхает земля
После нелегкого дня.
Город сжимает тугая петля
Нашего артогня.
И тишина. Кто летит по тропе?
Едет из штаба связной.
Вот он проходит уже по траве
Вдоль по опушке лесной.
— Левина, срочно!
— Сержанта? Сейчас!
…В крайней землянке возня.
— Левин, вставай!
Получен приказ:
Ждет
генерал.
— Меня? —
И тишина.
Кто летит по шоссе?
Слушает часовой.
Двое людей в световой полосе.
— Кто там? —
И весело:
— Свой!
Штаб.
По трехверстке прошел не спеша
Красный огрызок карандаша,
Горло Берлина сжимая.
Тени качаются на стене.
И генерал сидит в тишине.
Дремлет передовая.
— Слушай, сержант,
Ты музыкант?
— Да, генерал!
— На чем ты играл?
Ты кларнетист?
— Нет, генерал!
— Ты тромбонист?
— Нет, генерал!
— И не флейтист?
— Нет, генерал!
— На чем ты играешь, солдат?
— Мой инструмент — автомат!
— А до войны?
— Был скрипачом.
— Так собери музыкантов скорей.
Завтра мы наступление начнем.
Мало мне музыки батарей.
Ясно тебе? Почему замолчал? —
Тихо спросил генерал.
…Свет фонаря освещает глаза,
А на ресницах слеза.
— Разве в атаку легче ходить?
И под огнем безопаснее жить?
Что замолчал? —
Спросил генерал.
— Пишет жена?
— Нет, генерал!
— Где же она?
— Там, генерал!..
— Брат и сестра?
— В пепле костра…
— А старики?
— В тине реки…
Клезмера [4]-деда к оврагу вели,
Чтобы он фрейлехс [5] играл…
Я на Тучинке [6] в черной пыли
Клятву священную дал.
Я до победы не музыкант,
Мой инструмент — автомат.
— Есть у тебя и такой талант.
Ты настоящий солдат.
Будто алмазами режут стекло,
Небо ракеты прожгли.
Дымом Берлин заволокло,
Танки на приступ пошли.
Горло Берлина сжимает петля.
Стонет земля.
Город горит, задыхаясь в дыму,
Рушась во тьму.
Рвется пехота вперед и вперед
До Бранденбургских ворот.
И тишина. Додымил, допылал
Город над Шпрее-рекой.
Вышел из виллиса генерал
И помахал рукой:
— Левин, устал?
— Нет, генерал!
— Скрипку в подарок возьми, сержант.
Есть у тебя и такой талант.
…Тихо вокруг. Офицеры молчат.
Фрейлехс играет в Берлине солдат.
Пер. С. Гудзенко
Заборы. Калитки. У старой аптеки
Наш дом деревянный под тенью акаций.
Как видно, останутся в сердце навеки
Минск, Пролетарская, дом 18.
И мне 18! О ангел с косою
Из городка белорусского Копыль,
Где травы на выгоне блещут росою,
Где с тополем важно беседует тополь.
Не знаю — губами, руками, очами
Меня эта девушка приворожила…
Летал на свиданья глухими ночами,
Мне крылья давала какая-то сила.
— Нарви мне сирени, — попросит, бывало, —
За каждую веточку я поцелую. —
Ломаю сирень, и все кажется мало,
И снова ломаю сирень молодую.
Кувшинчики белые не распустились,
За низким забориком ждет мое счастье.
И синие сумерки ниже спустились.
И приняли в нашем свиданье участье.
А в этом саду жил поэт знаменитый.
Мы пили с ним воду из общей криницы.
И мшистый заборик, травою повитый,
Делил переулок, как будто граница.
Не садом, соседом своим любовался,
Когда он утрами ходил по дорожке.
Сиреневый куст над тропою склонялся.
Тюльпаны сгибали зеленые ножки.
Потом приходили к поэту селяне —
В льняных домотканых рубахах ребята.
Я слушал: шумят и поют на поляне,
И песни летят и садятся на хаты,
Как птицы. И матери знают в Полесье,
Что хлопцы гуляют у Янки Купалы.
О юность моя! Белорусские песни!
Хочу, чтобы все повторилось сначала!
…А утром я снова пришел за сиренью.
Нарвал. И скорее к забору рванулся.
Повис, исцарапав до крови колени.
И пятки моей кто-то пальцем коснулся.
Сквозь землю хотел провалиться от страха.
Сосед засмеялся:
— Куда ты, куда ты?
Послушай, поет перелетная птаха,
Она возвратилась до дому, до хаты.
Ты думаешь — жалко сирени?
Мой милый,
Мне жаль, что за нею приходишь украдкой,
Слыхал, что ты тоже изводишь чернила,
Ночами склоняясь над первой тетрадкой…
Ты знаешь, что песни растут, как живые, —
Корнями из сердца цветут они пышно.
А если ты станешь поэтом, в чужие
Не стоит сады забираться неслышно.
…А годы прошли. И война отгремела.
И я возвратился к родимым руинам.
У рва, где гремели раскаты расстрела,
Один я грущу над женою и сыном.
Но дому и саду у старой аптеки
Еще суждено из-под пепла подняться, —
Ведь в сердце поэта остались навеки
Минск, Пролетарская, дом 18.