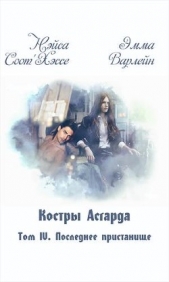О, как все ликовало в первые пять минут
После того как, бывало, на фиг меня пошлют
Или даже дадут по роже (такое бывало тоже),
Почву обыденности разрыв гордым словом «Разрыв».
Правду сказать, я люблю разрывы! Решительный взмах метлы!
Они подтверждают нам, что мы живы, когда мы уже мертвы.
И сколько, братцы, было свободы, когда сквозь вешние воды
Идешь, бывало, ночной Москвой — отвергнутый, но живой!
В первые пять минут не больно, поскольку действует шок.
В первые пять минут так вольно, словно сбросил мешок.
Это потом ты поймешь, что вместо, скажем, мешка асбеста
Теперь несешь железобетон; но это потом, потом.
Хотя обладаю беззлобным нравом, я все-таки не святой
И чувствую себя правым только рядом с неправотой,
Так что хамство на грани порно мне нравственно благотворно,
Как завершал еще Томас Манн не помню какой роман.
Если честно, то так и с Богом (Господи, ты простишь?).
Просишь, казалось бы, о немногом, а получаешь шиш.
Тогда ты громко хлопаешь дверью и говоришь «Не верю»,
Как режиссер, когда травести рявкает «Отпусти!».
В первые пять минут отлично. Вьюга, и черт бы с ней.
В первые пять минут обычно думаешь: «Так честней.
Сгинули Рим, Вавилон, Эллада. Бессмертья нет и не надо.
Другие молятся палачу — и ладно! Я не хочу».
Потом, конечно, приходит опыт, словно солдат с войны.
Потом прорезывается шепот чувства личной вины.
Потом вспоминаешь, как было славно еще довольно недавно.
А если вспомнится, как давно, — становится все равно,
И ты плюешь на всякую гордость, твердость и трам-пам-пам,
И виноватясь, сутулясь, горбясь, ползешь припадать к стопам,
И по усмешке в обычном стиле видишь: тебя простили,
И в общем, в первые пять минут приятно, чего уж тут.
Я знал, что меня приведут
На тот окончательный суд,
Где все зарыдают, и всё оправдают,
И всё с полувзгляда поймут.
И как же, позвольте спросить,
Он сможет меня не простить,
Чего ему боле в холодной юдоли,
Где лук-то непросто растить?
Ведь должен же кто-то, хоть Бог,
Отбросив возвышенный слог,
Тепло и отрадно сказать мне: «Да ладно,
Ты просто иначе не мог!» —
И, к уху склонясь моему,
Промолвить: «Уж я-то пойму!»
Вот так мне казалось; и как оказалось —
Казалось не мне одному.
…Теперь на процессе своем
Стоим почему-то втроем:
Направо ворота, налево гаррота,
А сзади лежит водоем.
И праведник молвил: «Господь,
Я долго смирял свою плоть,
Мой ум упирался, но ты постарался —
И смог я его побороть.
Я роздал именье и дом,
Построенный тяжким трудом,—
Не чувствуя срама, я гордо и прямо
Стою перед Вышним судом».
Он смотрит куда-то туда,
Где движется туч череда,
И с полупоклоном рассеянным тоном
Ему отвечает: «Да-да».
И рядом стоящий чувак
Сказал приблизительно так:
«Ты глуп, примитивен, ты был мне противен,
Я был твой сознательный враг.
Не просто озлобленный гном,
Которому в радость погром,—
О, я был поэтом, о, я был эстетом,
О, я был ужасным говном!
Я ждал, что для всех моих дел
Положишь ты некий предел,—
Но, словно радея о благе злодея,
Ты, кажется, недоглядел.
Я гордо стою у черты
На фоне людской мелкоты:
Доволен и славен, я был тебе равен —
А может, и выше, чем ты!»
Он смотрит туда, в вышину,
Слегка поправляет луну
Левее Сатурна — и как-то дежурно
«Ну-ну, — отвечает, — ну-ну».
Меж тем все темней синева.
Все легче моя голова.
Пришла моя очередь себя опорочивать,
А я забываю слова.
Среди мирового вранья
Лишь им и доверился я,
Но вижу теперь я, что все это перья,
Клочки, лоскутки, чешуя.
Теперь из моей головы
Они вылетают, мертвы,
Мой спич и не начат, а что-либо значит
Одно только слово «увы».
Всю жизнь не умея решить,
Подвижничать или грешить,—
Я выбрал в итоге томиться о Боге,
А также немножечко шить;
И вот я кроил, вышивал,
Не праздновал, а выживал,
Смотрел свысока на фанатов стакана,
На выскочек и вышибал —
И что у меня позади?
Да Господи не приведи:
Из двух миллионов моральных законов
Я выполнил лишь «Не кради».
За мной, о верховный ГУИН,
Так много осталось руин,
Как будто я киллер по прозвищу Триллер,
Чьей пищею был кокаин.
И все это ради того,
Что так безнадежно мертво —
Всё выползни, слизни, осколки от жизни,
Которой живет большинство;
И хроникой этих потерь
Я мнил оправдаться теперь?
Прости меня, Боже, и дай мне по роже —
Я этого стою, поверь.
Он смотрит рассеянно вдаль,
Я, кажется, вижу печаль
В глазах его цвета усталого лета —
Хорошая строчка, и жаль,
Что некому мне, старику,
Поведать такую строку;
Он смотрит — и скоро взамен приговора
«Ку-ку», произносит, «ку-ку».
И мы остаемся втроем
В неведенье полном своем;
Нам стыдно, слюнтяям, что мы отвлекаем,
Подумать ему не даем,
Но праведник дышит тяжко
И шепчет ему на ушко:
«Ну ладно, понятно, хотя неприятно,
Но Господи, дальше-то что?!»
И он, подавляя смешок,
Как если б морской гребешок
Спросил его «Боже, а дальше-то что же?» —
«Да что? — говорит. — На горшок».
И вот мы сидим на горшках,
Навек друг у друга в дружках;
Зима наступает, детсад утопает
В гирляндах, игрушках, флажках.
Мой ум заполняет не то,
Что прожито и отжито,
А девочка Маша, и манная каша,
И что-то еще из Барто,
Но я успеваю вместить,
Что он и не мог не простить —
И этого, справа, по имени Слава,
Что всех собирался крестить,
И этого тоже козла,
Эстета грошового зла,
Сидящего слева, по имени Сева,
И третьего — кто он? Не зна…
Он всех нас простит без затей,
Но так, как прощают детей,
Чьи ссоры (при взгляде серьезного дяди)
Пустого ореха пустей.
Но краем сознанья держась
За некую тайную связь,
Без коей я точно подох бы досрочно
И был совершенная мразь,—
Уставясь в окно, в полумрак,
Где бегает радостно так
Толпа молодежи, — я думаю: «Боже!
А надо-то было-то как?»
Он смотрит рассеянно вбок,
И взор его так же глубок,
Как тьма океана; но грустно и странно,
Как будто он вовсе не Бог,
Он мне отвечает: «Вот так,
Вот так вот», — и делает знак,
Но этого знака среди полумрака
Уже мне не видно никак.
Он что-то еще говорит,
И каждое слово горит,
Как уголь заката; шумит, как регата,
Когда над волною парит,
И плещет, как ветка в грозу,
И пахнет, как стог на возу —
Вот так: бобэоби… но нет, вивиэре…
Потом моонзу, моонзу!