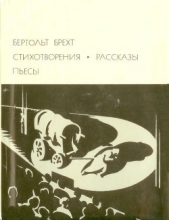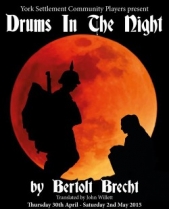Кто еще помнит
О славе Нью-Йорка, города-гиганта, гремевшей
В первое десятилетие после мировой войны?
Эпические песни слагались в честь исполинской чаши, которой в то время была эта Америка!
Cod’s own country! [1]
Мы ее называли по одним лишь начальным буквам — США,
Словно известного всем, единственного Друга юности.
Все знали, будто всякий, кто бы туда ни попал,
Через дважды две недели,
Выварившись в этой неисчерпаемой чаше, становится
неузнаваем.
Все племена, причалив к этому ликующему континенту,
Забыв свои от века укоренившиеся обычаи,
Как дурные привычки,
Старались изо всех сил
Стать как можно скорее такими же,
Как проживавшие здесь всегда.
А эти принимали их великодушно и беззаботно,
Как нечто от них совершенно отличное
(Отличное только отличностью их жалкого существования!)
Подобно хорошей опаре, они не боялись —
Нового теста можно подбрасывать сколько угодно.
Они знали:
Словно дрожжи, они впитаются всюду.
Какая слава! Какой век!
Ах, эти голоса их женщин, звучащие из патефонов!
Так пели люди — о, сохраните эти пластинки! — в золотом веке!
Благозвучие вечерних вод в Майами!
Неудержимая веселость поколений, мчавшихся по нескончаемым
улицам!
Покоряющая скорбь поющих женщин,
Оплакивающих широкогрудых мужчин, но все же по-прежнему
окруженных
Широкогрудыми мужчинами.
В огромных парках они собирали редкостные человеческие особи
Откармливали их со знанием дела, купали и взвешивали,
Чтобы их несравненные телодвижения запечатлеть на пленке
Для будущих поколений.
Свои колоссальные здания они возводили с небывалой
расточительностью, тратя Лучший человеческий материал.
Совершенно открыто, на глазах
всего мира
Они выкачивали из своих рабочих все, что в них было,
Расстреливали их в каменноугольных шахтах и выбрасывали
их изношенные кости,
Их отработанные мышцы на улицу
С добродушнейшим смехом.
Но с удовлетворением истинных спортсменов они сообщали
О такой же грубой жестокости, проявленной рабочими во время
стачек
Гомерических масштабов.
Нищета там считалась позором.
В кинолентах этой обетованной земли
Мужчины, попав в беду и увидев жилище бедняка, где стоят
кожаный диван и пианино^
Тотчас кончали с собой.
Какая слава! Какой век!
Ах, нам тоже хотелось иметь такие костюмы из грубошерстной
ткани,
С ватными валиками на плечах, от которых мужчина становится
таким широкоплечим, Что трое таких мужчин заполняют весь тротуар.
Мы тоже старались затормозить наши движения,
Неторопливо засовывать руки в карманы и медленно подниматься
Из кресел, в которых мы полулежали (словно никогда не
собирались вставать),
Так подниматься, как будто переворачивается целое государство.
И мы тоже набивали рот жевательной резиной (Beechnut),
O’ которой говорили, что она при долгом употреблении
Способствует укреплению нижней челюсти,
И мы тоже сидели и вечно работали челюстями, как корова,
жующая жвачку. И мы тоже стремились придать нашим лицам пугающую
непроницаемость Тех poker face men [2] ,
которые казались своим согражданам
Неразрешимой загадкой.
И мы тоже всегда улыбались, как до или после успешной сделки,
Той улыбкой, которая говорит об отличном пищеварении.
И мы тоже весело похлопывали собеседников (все они — будущие
клиенты!)
По плечу, по ляжке или между лопаток,
Стремясь любыми путями получить власть над этими людьми,
Лестью или угрозой. Так поступают с собакой.
Так мы подражали этой прославленной породе людей,
Которая, казалось, призвана к господству над миром,
Подвигая его вперед.
Какой оптимизм! Какой подъем!
Эти заводские цехи: величайшие в мире!
Автозаводы вели пропаганду деторождения: они производили
автомобили (в рассрочку) Для тех, кто еще не родился! Тем, которые
Выбрасывали вон почти не ношенные костюмы (но так,
Чтобы они тотчас же погибали, желательно в яму с негашеной
известью),
Выплачивались премии! Эти мосты:
Цветущую землю они соединяли с цветущей землей!
О, они бесконечны!
Величайшие в мире! А эти небоскребы:
Они, взгромоздившие груду камней на такую высь,
Что всех переросли, озабоченно наблюдали из своего
поднебесья, как новостройки,
Которые только что поднялись над землей, угрожали
Подняться выше их, городских мамонтов.
(Кое-кто начал было опасаться, что рост городов
Уже нельзя будет остановить, что людей
Задушат те двадцатиэтажные города, которые вырастут над
ними,
И что их замуруют в гробах и погребут друг под другом.)
И все же: какой оптимизм! Даже трупам
Румянили щеки и подрисовывали благодушную улыбку
(Я воспроизвожу эти черты по памяти, другие
Я позабыл), так что даже
Усопшим не позволяли утратить надежду.
Что за люди! Боксеры их — самые сильные в мире!
Изобретатели их — самые практичные! Их поезда — самые
быстрые!
И самые многолюдные!
И все это, казалось, создано на тысячу лет.
Ведь жители города Нью-Йорка твердили,
Что их город построен на скалах и поэтому он
Незыблем.
В самом деле, вся их система общественной жизни
была несравненна.
Какая слава! Какой век!
Впрочем, этот век
Продлился каких-нибудь восемь лет.
Ибо в один прекрасный день по миру пронесся слух о небывалых катастрофах,
Потрясших прославленный континент, и все стали
Отталкивать с отвращением его банкноты (вчера еще столь
вожделенные)
Как гнилую, смердящую рыбу.
Сегодня, когда стало известно,
Что эти люди обанкротились,
Мы на других континентах (которые, правда, тоже
обанкротились) видим все вещи
Совсем иными, чем они нам представляются внешне.
Что такое эти небоскребы?
Мы смотрим на них спокойней.
Небоскребы — да ведь это просто жалкие сараи, когда они не
дают дохода.
Устремляться так высоко — при такой нищете?
До самых облаков — будучи по уши в долгах?
Что такое эти поезда?
В поездах, подобных отелям на колесах,
Нередко теперь не проживает никто,
И никто никуда не едет
С несравненной быстротой.
Что такое эти мосты? Они соединяют
(Самые великие в мире!) свалки со свалками.
А что такое эти люди?
Говорят, они все еще румянятся, однако
Теперь только затем, чтобы оторвать местечко.
Двадцатидвухлетние
Женщины нюхают теперь кокаин, прежде чем идти
Завоевывать себе место у пишущей машинки.
Отцы и матери впрыскивают дочерям под кожу яд,
Придающий им более пылкий вид.
Все еще продаются пластинки, хотя и не так уж бойко,
Но о чем, собственно, поют эти козы, которые никогда
Петь не учились? Каков
Смысл этих песен? Собственно говоря,
Что они пели нам все эти годы?
Почему нас теперь раздражают те голоса, которые прежде
вызывали взрывы рукоплесканий?
Почему
Фото этих городов не производят теперь на нас впечатления?
Потому что всем теперь стало ясно:
Эти люди — банкроты!
Потому что все теперь знают, что их машины свалены в исполинские кучи (величайшие в мире!)
И ржавеют,
Подобно машинам старого мира (сваленным в меньшие кучи).
Еще происходят всемирные матчи боксеров перед
несколькими зрителями, случайно оставшимися в зале.
Но даже победители этих матчей
Не в силах восстать против загадочного закона,
Изгоняющего людей из магазинов,
В которых ломятся полки.
Сохраняя улыбку свою (это все, что теперь им осталось),
Стоят отставные чемпионы мира
На путях последних, еще действующих трамваев.
Трое таких надменных людей заполняют тротуар, однако
Неизвестно, что наполнит им брюхо, прежде чем вечер
наступит.
Они мерзнут. Вата греет лишь плечи тем, кто бесконечными
вереницами
День и ночь бредет по пустынным ущельям
Среди безжизненных каменных громад.
Их движенья замедлены, словно движенья голодных,
ослабевших животных. Медленно, как будто переворачивается целое
Государство, они пытаются подняться из канавы, в которой
они лежали
(Как будто никогда не собирались вставать).
Говорят, оптимизм их
Все еще жив; он основан на зыбкой надежде,
Что завтра дождь пойдет снизу вверх, в небеса.
Говорят, что они неудержимо ликуют,
Когда видят кусок мяса, выставленный в витрине.
Но говорят, будто кое-кто еще может найти работу: там, где
Пшеницу целыми эшелонами сбрасывают в океан, который
Называется Тихим.
И еще говорят, что те, кто ночует на скамейках в парке,
Перед тем как уснуть, смотрят на пустынные небоскребы,
Предаваясь отнюдь не благонамеренным мыслям.
Какое банкротство! Какая
Великая слава погибла! Какое открытие:
В их системе общественной жизни такой же
Безнадежный порок, что и в системе общественной жизни
Более скромных людей.