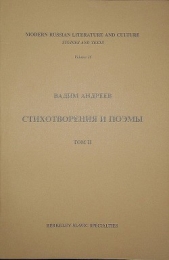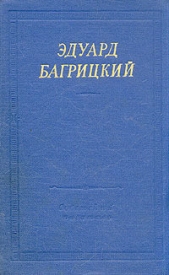Две черные кисточки на острые уши
Для красоты прикрепив,
Молится белка на лесной опушке,
Как на паперти, — лапки сложив.
День благовещенья сегодня, быть может,
Первой сосулькой ее озарил,
Быть может, слетел к ней посланец Божий,
Некий беличий Гавриил.
В знак того, что случится, что будет,
Уронила сорока перо:
И когда-нибудь
Бельчонок начнет проповедовать людям
Недоступное людям добро.
1963
«Золотое брюшко прикрепив к паутине под крышей…» [21]
L’araignee du jour — amour
Золотое брюшко прикрепив к паутине под крышей,
Качался паук на тонком и звонком луче,
А лучик другой — мне казалось, он дышит
И поет у меня на плече.
В мире много таинственно радостных звуков.
Я их слышу, когда ты положишь на плечи мои
Твои загорелые руки,
Многозвучные руки твои.
Ты помнишь — огромное солнце пылало,
Твоя золотая дрожала рука,
И лучи — всем спектром звенящие жала —
Пронзали расплавленные облака.
Любимые волосы звенели скрипичным оркестром —
Что ни волос, то новый светящийся звук,
И в ладонь — точно там для него уготовано место, —
Как первая скрипка, спускался паук.
1963
«Все больше тяжести…» [22]
Пусти меня, отдай меня, Воронеж…
О. Мандельштам
Все больше тяжести,
Все меньше нежности…
Где ты, бродяжество?
И в мире вражеском
Все — уже узкого,
Все меньше русского,
И слово стиснуто,
И горло сдавлено,
И тот — неистовый, —
В веках поставленный,
Меня невинного,
Меня в Воронеже…
Господь, прости меня,
Его — но можешь ли?
О где же он,
Тот Антигонин жест —
Землей и глиною,
Меня невинного,
Меня в Воронеже…
1958
«Ваш непоставленный памятник…» [23]
Ваш непоставленный памятник…
Перед ним — без конца плакатов и криков —
Пройдут правдолюбцы, лжецы, равнодушные странники,
Пройдет вся Россия — от мала и до велика.
Ложь и забвенье — предательства хуже.
Забвенье и ложь не лечат в больнице.
Пусть сердце сожжет очистительный ужас,
Из пепла оно возродится.
Анна Ахматова!
Ваши стихи — это совесть,
Которая снова нас жжет и тревожит,
И знаю — от Вашего скорбного слова
Станут новые люди яснее и тверже.
1963
«Сочетанье согласных и гласных…»
Сочетанье согласных и гласных —
Кости и мускулы тела,
Но тело мертво и безгласно,
Пока его кровь не согрела.
Подчиняется каждое слово
Ритму незримого сердца,
Чтоб смогло потускневшее олово
Золотом вдруг согреться.
О, зачатье стиха непорочно!
Взлетает, как иволга, муза,
Одевается магией строчка,
И звенит оперенная музыка.
Муравей этой музыкой дышит,
Звуки на ниточку нижет, —
А глухой утверждает — «не слышу!»,
А слепой заявляет — «не вижу!»
Эти споры, поверь, никудышны.
В ответ на стихи мои русские
Муравей чуть заметно, чуть слышно
Сигнализирует усиками.
«Многословья не терпят ни жизнь, ни стихи…»
Многословья не терпят ни жизнь, ни стихи:
От рифмы до рифмы, казалось бы, — версты,
И, казалось бы, редко кричат петухи
По ночам в полумраке разверстом.
Но от крика до крика молчаньем полна
В магическом однообразии ночи
Вся бессмертная жизнь. От звена до звена
Протянулась в безгласии истина строчек.
Эту истину трудно, быть может, найти
И не соблазниться мгновенным и броским.
Только верную рифму наметив в пути,
Ты не станешь чужим и пустым отголоском.
1966
«Поспешно дышит человек…» [24]
Океанским берегам свойственны полусуточные приливы.
Географический учебник.
Поспешно дышит человек,
Взбежав на лестницу, догнав автобус,
Иль опоздав и сдерживая злобу, —
Свой он растрачивает век.
На мелочь разменяв рубли
Первоначально полноценной жизни,
Он измеряет вечность дешевизной
Им сходно купленной земли.
Смотри, как дышит великан:
Ему чужда дневная суматоха —
За сутки только два огромных вздоха,
И полон жизни океан.