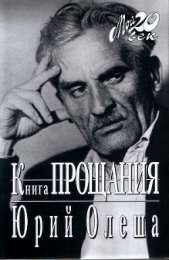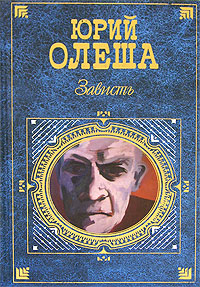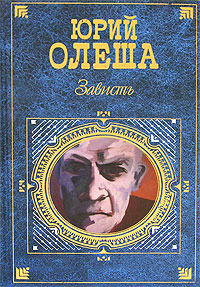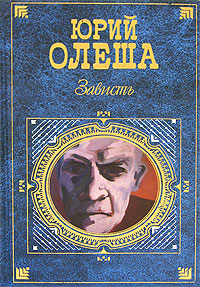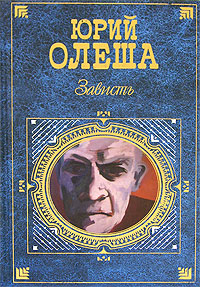Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний "

Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний " читать книгу онлайн
Работа над пьесой и спектаклем Список благодеяний Ю. Олеши и Вс. Мейерхольда пришлась на годы великого перелома (1929–1931). В книге рассказана история замысла Олеши и многочисленные цензурные приключения вещи, в результате которых смысл пьесы существенно изменился. Важнейшую часть книги составляют обнаруженные в архиве Олеши черновые варианты и ранняя редакция Списка (первоначально Исповедь ), а также уникальные материалы архива Мейерхольда, дающие возможность оценить новаторство его режиссерской технологии. Публикуются также стенограммы общественных диспутов вокруг Списка благодеяний, накал которых сравним со спорами в связи с Днями Турбиных М. А. Булгакова во МХАТе. Совместная работа двух замечательных художников позволяет автору коснуться ряда центральных мировоззренческих вопросов российской интеллигенции на рубеже эпох.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

23 октября 1930 года: «В Олешиной пьесе я бы с удовольствием сыграл бы рольку. У меня почему-то предчувствие, что здесь Мейер тряхнет своей стариной. И очень необычен материал для ГосТИМа — это во всяком случае — интересно» [387]. 5 ноября 1930 года: «Всеволод, конечно, удавил всю оппозицию, и теперь началось бегство в кусты. <…> Нового в театре ничего. Некоторые ненавидят Всеволода прямо по-звериному и страшно, напр/имер/, такие, как Логинов. Даже Варвара Федоровна [388], эта испытанная энтузиастка, и та холодна. Театр стал совсем другой, настоящий, заправский профессиональный академический» [389].
1 декабря 1930 года: «В театре по-прежнему болотце и уже никто не заинтересован в деле». 24 декабря: «Всеволод все куда-то бегает, как будто его греют за Париж <…>» [390]. 6 января 1931 года: «Как говорят, по вечерам у него на дому идет работа над Алешой (так. — В.Г.), там уж роли распределяют, и т. п., и будто бы роль Татаринова (так. — В.Г.) предложили Игорю [391]. Он, конечно, отказался. Если меня не займут, то я не горюю ни в какой степени. Подработаю в какой-нибудь другой области, как радио или кино» [392]. 3 марта: «Нынче утром читали вновь переделанную пьесу Олеши. Она мне окончательно не понравилась. Трактует проблему, которая абсолютно никому не интересна, и вообще в повестке дня стоит только у поклонников промпартии. Проблема интеллигенции, причем главный персонаж списан с З. Райх. Какая это интеллигенция и кого она может интересовать. Да и вообще, этот вопрос о пупе Земли, какое высокомерие и гнусность для наших дней. Говорят, дают играть какого-то сумасшедшего белогвардейца (Кизеветтера. — В.Г.). Руководство в ГосТИМе тупеет, это совершенно очевидно» [393].
7 марта: «Сегодня будет первая читка Олеши. Как я уже излагал, никакого энтузиазма пьеса эта у меня не вызывает». 16 марта: «Рольку в новой пьесе мне вручили. Она во мне вызывает омерзенье, да и вся пьеса в целом такая трухлявая, говенная интеллигентщина, что даже мне противно до черт знает чего. Позавчера труппочка приняла новый вариант гробовым молчаньем». 17 марта: «Завтра первая репетиция „Списка благодеяний“, но я не пойду: выходной день-с, ничего не придерешься». 19 марта: «Вечером же, возвращаясь из кино <…> нарвался на Мастера. Он говорит: Где же ты пропадаешь? Я говорю: Накапливаю оптимизм на лыжах. <…> Пока что я ни на одной репетиции не присутствовал. <…> Ну его, Мастера, в болото <…> Несмотря на то, что отношения у нас очень приличные, никакой симпатии к нему вблизи не питаю <…> За последнее время очень большевизировался. Попутнический курс ГосТИМа стал для меня явно тесен <…> Читай хорошие книги, вроде Уленшпигеля или Пантагрюэля. <…> Не читай интеллигентщину» [394].
25 марта: «Говорил с Олешей и очень его обидел, сказав, что роль мне совсем не нравится. Между прочим, читал я ее позавчера очень неплохо (судя по вниманию, так сказать, зрительного зала)». 30 марта: «Я сомневаюсь, чтобы Олешина пьеса пошла в этом сезоне, уж больно она репетируется в загробных темпах. Я на репетиции хожу очень редко, и пока никаких скандалов нет: на мою роль назначена целая армия. Раз я прочитал, и теперь читают по очереди Кельберер, Кириллов, Сибиряк, Мартинсон, Цыплухин (есть такой, из студентов) и Фролов. Зина себе выбрала надежную дублершу — Суханову, и все идет, как по маслу». 31 марта: «В театре своем что-то давно не был. Как-то проспал репетицию». 15 апреля: «Как только я ввалился в дом — звонки по телефону: просят на репетицию в театр. <…> На репетиции был около часу и злонамеренно хвалил работу Мейера». 17 апреля: «Директор Белиловский говорит о том, что Мейер будет ставить Олешу и конец. Затем будут ставить молодые, а сам должен на год засесть за „Гамлета“. Театр пришел в полный упадок, течет крыша и капает в зрительный зал. Думаю о том, чтобы сыграть Татарова в Олеше, мне кажется, в этом есть смысл. Кизеветтера же играть глупо». 21 апреля: «Вчера, как говорят, приехал Всеволод. Говорят, что он очень много поставил в Лен/ингра/де. Может быть, мои кусты с Кизеветтером будут легки и органически, ибо Кириллов уже насобачился». 22 апреля: «<…> опасаются за то, что „Список благодеяний“ не будет готов в этом сезоне. Я тебе уже писал, что директор Белиловский хочет, чтобы после Олеши Мастер ставил только „Гамлета“, года полтора, а все очередные работы будет делать молодежь и будто бы Грипич, который входит в театр с пятнадцатью своими молодцами».
24 апреля 1931 года: «Вчера просидел всю репетицию на галерке с таким расчетом, чтобы меня не заставили самого изображать Кизеветтера, и, во-вторых, в подробностях посмотреть, что навернул гений за ленинградские гастроли. Все мои ожидания на дерьмовость были перевыполнены. <…> Вечером на спектакле „Д.Е.“ произошел у меня разговор с Мастером, и я прибег к трюку. Он, как полагается, вначале спрашивал, я, как полагается, по уставу внутритимовой службы, говорил, что хорошо. Когда же дело дошло до Кизеветтера, то попросил Мастера переключиться на другую роль, т. е. Татарова, на что он согласился с необычайной охотой. Конечно, играть ее я не буду, но на первое время хоть окончательно сбросить себя с Кизеветтера». 27 апреля: «Вчера очень честно просидел всю репетицию „Списка“. Кизеветтера играть окончательно не хочется…» 29 апреля: «Вчера внимательно смотрел репетицию. Идет все довольно туго, и осложняется все это стычками между Мастерами. <…> Настроение в театре очень нервное». 30 апреля: «В театре, оказывается, кажинный день скандалы. Хорошо, что я не прихожу…» 4 мая: «Кизеветтер пока проходит хорошо — ничего не делаю. В театре вообще, как всегда весной, чрезвычайно нервно и бестолково. <…> Итак, пока со „Списком благодеяний“ у меня лично все обстоит благополучно». 6 мая: «В театре явный антракт. Барыня заболела, и, естественно, вся работа остановилась. Ведет и изводится на репетициях Павел Цетнерович, и они не двигаются с места. <…> Мастер не заседает по болезни барыни» [395].
Райх заболевает в разгар репетиций (и три недели Гончарову репетирует М. Суханова).
Все усиливающееся одиночество Мейерхольда в театре.
Юрий Елагин, оценивая обстановку в труппе ГосТИМа этого времени, писал: «<…> дистанция между его (Мейерхольда. — В.Г.) художественной квалификацией и таковой у среднего актера ТИМа тридцатых годов была действительно огромной. Вряд ли теперь рядовой мейерхольдовец мог вообще даже понять идеи своего мастера, слишком уже необъятна была пропасть между их культурными уровнями, слишком различны были теперь их мысли и даже язык, на котором они говорили…» [396]

Гарин рассказывает жене о скандале, разыгравшемся после выступления Мейерхольда на диспуте в связи со спектаклем «Последний решительный», и комментирует: «Мое впечатление от всего произошедшего: старый баран совершенно выжил из ума и к тому же болен манией преследования и авансов. Перед постановкой бездарнейшей и салонной /пьесы/ Олеши вопит, что его зарезали. Тогда как после Олеши его уж наверняка стукнут по башке» [397].
Из личных нерешенных проблем и вопросов вырастает этот камерный, психологический, очень важный для Мейерхольда спектакль. Он делает его в отчужденной труппе, дерется за него, находя в себе энергию и силы, утверждая свое следование запретному символизму. Несмотря ни на что, драматург и режиссер отстаивают смысл будущего спектакля — пусть усеченный, пусть деформированный. Отступая шаг за шагом, стремятся, чтобы этот шаг оказался последним.