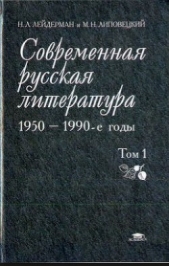Русская проза рубежа ХХ–XXI веков: учебное пособие
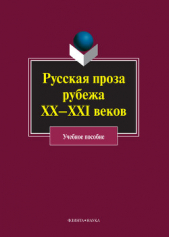
Русская проза рубежа ХХ–XXI веков: учебное пособие читать книгу онлайн
В пособии систематически и последовательно описаны основные явления прозы 90-х годов ХХ в., представлены ведущие направления (фантастическое, мемуарное, военная проза, неомиф, историческая проза). Показано их бытование и трансформация в XXI в. В монографических главах рассматривается творчество ведущих писателей этого периода – А. Азольского, В. Аксенова, Ф. Горенштейна, А. Кабакова, В. Маканина, В. Пелевина, Л. Петрушевской, Д. Рубиной, А. Слаповского, А. Солженицына, В. Сорокина, Т. Толстой, Л. Улицкой. В приложении приведены литература, тематика самостоятельных работ, указатель имен.
Для студентов высших учебных заведений, бакалавров, магистрантов, аспирантов, преподавателей, учителей и всех интересующихся современным литературным процессом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Среди произведений о войне, появившихся в последние годы, особенно заметны два романа: «Прокляты и убиты» (1992-1994) В. Астафьева и «Генерал и его армия» (журн.вар. – 1994, книжный – 1997) Г. Владимова. Не случайно их публикация сопровождалось дискуссиями о праве писателей на «новую» правду о войне, правомерности натуралистического изображения событий, специфике положительного героя и форме выражения авторской позиции.
Монументальный роман В. Астафьева (Виктор Петрович, 1924-2001) «Прокляты и убиты» решает военную тему в предельно жестком ключе. В первой части «Чертова яма» («Новый мир». 1992. № 10-12) писатель рассказывает историю формирования 21-го стрелкового полка, в котором еще до отправки на фронт погибают, калечатся физически и духовно те, кто призван стать защитником Родины. С первых страниц романа автор подробно описывает бытовые условия, в которых оказываются его герои. Бездарная, безответственная организация быта в учебных лагерях делает недавно по-сибирски крепких парней «доходягами», крайне истощенными отсутствием полноценной пищи, крова, санитарных условий: «действует машина, давняя тупая машина, не учитывающая того, что времена императора Павла давно минули, что война нынче совсем другая, что страна находится в тяжелейшем состоянии и не усугублять бы ее беды и страдания, собраться бы с умом, сосредоточиться, перерешить бы многое».
Столь же изнурительными для неокрепших душ будущих солдат оказываются многочасовые занятия в отсутствие боеприпасов и современного оружия, пропагандистские беседы с политруками-комиссарами, исполнение огромного количества армейских условностей, не нужных и даже вредных в условиях войны. Используя временные детали, автор с помощью особой патетической интонации, сравнения состояния людей на войне разных исторических эпох показывает изнутри то, что происходило в описываемое им время.
Вторая часть «Плацдарм» («Новый мир». 1994. № 10-12), посвященная форсированию нашими войсками Днепра, также полна крови, боли, описаний произвола, издевательств, воровства, процветающих в действующей армии. Ни оккупантам, ни доморощенным извергам не может простить писатель цинично бездушного отношения к человеческой жизни. Необычный, «непарадный» взгляд на войну рождает особый пафос авторских отступлений.
Ключевыми эпизодами первой части романа можно назвать два кульминационных момента – убийство доходяги красноармейца Попцова озверевшим командиром роты Пшенным, забившим насмерть своего подчиненного, и показательный расстрел братьев Снегиревых во исполнение сталинского приказа № 227.
Слова одного из героев-резонеров романа – старообрядца Коли Рындина: «Прокляты и убиты. Прокляты и убиты! Все, все-э...», – вскрывают авторское понимание войны как противоестественного состояния человека: гибель личности здесь – лишь символ общей обреченности людской массы перед неизбежными страданиями и смертью.
Оба эпизода обозначают собой два полюса, между которыми, как показывает В. Астафьев, оказалась человеческая душа в условиях войны: на одном полюсе – тотальное озверение, выхолащивание человеческой души, утрата человеческого облика, на другом – столь же бездушная власть репрессивной машины, имеющей дело не с людьми, а с «человеческим материалом», ни в грош не ставящая отдельную человеческую жизнь.
Именно эта машина загнала тысячи людей в такие условия, в которых для многих и многих оказывается невозможным сохранить живую душу, понятия о чести, совести, милосердии. «Чертова яма» бердских учебных лагерей, плацдарм на правом берегу Днепра, обороняемый горсткой спасшихся после сорванной переправы солдат, в изображении В. Астафьева становятся символом жизни народа, «проклятого и убитого», отвернувшегося от Бога и преданного своими новыми «вождями», обреченного вместо жизни вести существование: «Конечно же, жизнь на передовой и жизнью можно назвать лишь с натяжкой, искажая всякий здравый смысл, но это все равно жизнь, временная, убогая, для нормального человека неприемлемая, нормальный человек называет ее словом обтекаемым, затуманивающим истинный смысл, – существование».
От описаний состояния человека на войне писатель переходит к размышлениям об абсурдности и запредельности человекоубийства, выставляя свой счет и большевизму революционных и предвоенных лет, и фашизму, и любой идеологии, оправдывающей смерть во имя «высшего смысла»: «Век за веком, склонившись над землей, хлебороб вел свою борозду, думал свою думу о земле, о Боге. Тем временем воспрянул на земле стыда не знающий дармоед. Рядясь в рыцарские доспехи, в религиозные сутаны, в мундиры гвардейцев, прикрываясь то крестом, то дьявольским знаком, дармоед ловчился отнять у крестьянина главное его достоинство – хлеб».
Горящие поля лета 1941 г. невольно вызывают в памяти картины коллективизации, когда по приказу сверху уничтожался хлеб, который не могли вывезти «в центр», вместо того чтобы отдать его тем, кто его вырастил. Да и само выражение «горящие поля» давно стало общим местом в описаниях войны. С другой стороны, картина поля, охваченного огнем, восходит к традиционной метафоре «битва – жатва» общего семантического поля литературы и фольклора.
Слова «излом», «уродство», «извращения» и т.п. в устах автора означают убеждение, что зло все же не в природе вещей и не в сущности человека, оно – результат временного отпадения людей от Бога, от добра и уже потому не может быть ни оправдано, ни принято как неизбежное. Вопреки сложившемуся мнению о настроении «безысходности» романа В. Астафьева, безнадежности его отрицающего пафоса именно милосердие, сострадание воспринимаются писателем как естественные свойства каждого человека.
Авторские размышления дополняются введением своеобразного ряда героев, которые вызывают ассоциацию с библейским символом «семь пар чистых и семь пар нечистых». К первой группе относятся те, кого можно определить носителями авторского идеала: это Коля Рындин, солдат-богатырь, старообрядец по вероисповеданию; командир роты Алексей Щусь, истинный офицер, человек чести (вынужденный как сын переселенцев скрывать свое истинное имя Платон Платонов); Алексей Шестаков – простой парень из глубинки, надежный товарищ и отважный солдат, и многие другие. В. Астафьев показывает, что все они – солдаты, взявшие оружие лишь силой обстоятельств и вынужденные перешагивать через свои эмоции ради защиты родины.
Оставаясь верным исторической правде, писатель дополняет галерею своих героев теми, о ком еще недавно вынуждены были молчать. Долго считалось, что защитник родины должен быть безупречен во всем. В. Астафьев же вводит персонажей, сомнительных с точки зрения закона, так называемых приблатненных: Леху Булдакова, неоднократно менявшего фамилию Зеленцова-Шорохова, других им подобных солдат. Пусть они в прошлом совершили уголовное преступление, вороваты, не любят рутины солдатского труда, зато могут постоять за себя и за товарищей, отважны в бою, надежны в опасности, да и их вороватость не раз помогала в ситуациях, когда солдату не на кого надеяться, кроме себя. Тем самым писатель заостряет характерную для всей прозы 2-й половины ХХ в. проблему государства и народа: подлинно народные герои его произведения зачастую оказываются преступниками с точки зрения государства.
Интересно, что В. Астафьев противопоставляет чувства любви и жалости, ставя второе в условиях войны даже выше первого. Хоть жалость менее возвышенна, она ближе к простому человеку, терпимее к его слабостям, чувствительнее к его боли: «Я не люблю, я жалею людей, – рассуждает один из близких писателю героев, майор Зарубин, – страдают люди, им голодно, устали они – мне их жалко. И меня, я вижу, жалеют люди. Не любят, нет – за что же любить-то им человека, посылающего их на смерть? Может, сейчас на плацдарме, на краю жизни, эта жалость нужнее и ценнее притворной любви».
Жалость к простому человеку, не по своей воле или вине оказавшемуся в мясорубке войны, и заставляет писателя, даже наперекор «здравому смыслу», отрицать известную арифметику, согласно которой жизнь ста дороже жизни одного. Осознание бесценности жизни отдельного человека побуждает автора неоднократно прерывать повествование, углубляясь в истории многочисленных, в том числе и эпизодических, героев произведения.