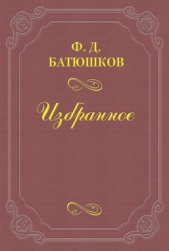Психология литературного творчества
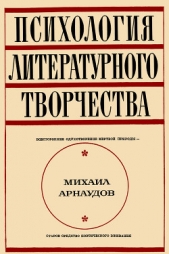
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тургенев, будучи рабом творческих сомнений, признавался, что изредка исходил из целостного видения, из моментально сложившихся замыслов; он обыкновенно шёл от ясно схваченных в жизни и хорошо воссозданных в воображении лиц к медленно выработанному сюжету и обстоятельному плану целого. Случай, наблюдение, его мысли наталкивали на определённые образы и проблемы, которые он желал художественно развить. Первой его заботой было отдать себе отчёт об этих образах, набросав о них «формулярные списки», т. е. краткие портреты и биографии будущих героев. Так он создавал «Новь», «Накануне» и «Первую любовь» [1213]. Определив возраст, социальное положение и главные черты характера действующих лиц, он приступал к плану романа. В общих чертах и со всеми существенными эпизодами он схематично набрасывал развитие сюжета. О «Нови» есть «краткий рассказ», которому потом автор следовал при развитии сюжета; о «Накануне» — 14 небольших глав. Исполнение, отложенное на несколько лет из-за этого метода постепенного выяснения, одинаково свидетельствует как о живой впечатлительности, так и об относительно слабой изобретательности Тургенева.
Достоевский имел обыкновение набрасывать подробные программы или планы своих романов, отмечать сюжетные варианты, отдельные характеристики, афоризмы, рассуждения своих героев, фразеологию и их словарь, целые сцены и диалоги и т.д. Первоначальный очерк претерпевает значительные изменения, появляется несколько редакций произведения, в большей части незаконченных, оставшихся только в отрывках. В «Бесах», он, например, спрашивает себя: «В чём собственно (помимо характеров и главной, непосредственной идеи) интрига романа?». И в девяти пунктах своих заметок он даёт полный ответ на вопрос. В связи с «окончательным планом» этого романа в 1870 г. он пишет Майкову: «Задумав огромный роман (с направлением — дикое для меня дело), полагал сначала, что слажу легко. И что же? Переменил чуть не десять редакций и увидал, что тема oblige, а потому ужасно стал к роману моему мнителен» [1214]. В романе «Подросток» повторяется та же история с заметками о судьбе героя, которые частично были заброшены, с соображениями о «сути романа», о линиях интриги, их различных вариантах, свидетельствующих, как упорно автор искал самую подходящую сюжетную схему, уясняя себе характеры и тенденции. Испробовав самые разнообразные разработки сюжета, отбросив одни, подхватив другие, при удивительном богатстве воображаемых историй, эпизодов, сцен, он постоянно меняет свой план, будучи, однако, всегда уверенным в счастливом завершении предпочитаемой редакции. В отличие от Тургенева он обладал обилием творческих догадок, так что вся трудность в работе сводилась к выбору, который надо было делать между несколькими возможностями в развитии характеров, между параллельными темами и другими элементами изложения при верности начальному замыслу [1215].
Классики и романтики, реалисты и натуралисты — все разрабатывают конспекты, планы, схемы сюжетных линий, более обстоятельно или более сжато, scenario, над которыми постоянно думают, прежде чем наступит кризис окончательного исполнения. Каждый такой проект, если выражает не оформленный ещё замысел, последовательно претерпевает довольно значительные изменения, так как воображение и разум неустанно заняты пополнением его, подгонкой к техническим требованиям литературного характера.
Но и обратный случай является чем-то обыкновенным. Если одни авторы привыкают (или имеют необходимость) смотреть глазами плана на своё произведение и работать над рукописью, то другие прямо переходят от внутренней работы к письменному фиксированию законченного произведения. Тогда естественно, что чисто внутренняя работа была более продолжительной и всё обстоятельно взвешивалось в голове, прежде чем это доверялось бумаге. По существу, строгой разницы между обеими категориями писателей провести нельзя. Является ли план написанным или держится в голове, это вопрос памяти или случайно усвоенной практики, потому что, когда такой план не пишется, он всё же является неизбежным этапом творческой мысли при основных линиях замысла или уверенно намеченных частей развития. Фридрих Геббель или Дюма в драме, Гёте или Жорж Санд в романе [1216] не имеют никакого написанного плана, никаких этюдов, не вживаются в подробности при помощи документов, считая, может быть, это предварительное сроднение, даже самое незначительное, вредным до известной степени, поскольку таким образом ослабляется вдохновение. Яворов планирует свои драмы в голове, ему кажется, что, закрыв глаза, он прочтёт их написанными до мельчайших подробностей в своей голове [1217]. А Эдгар По в форме совета рассказчику выдвигает эту норму для языка: «Не надо браться за перо, если не зафиксирован по меньшей мере общий план. Надо обсудить и скомбинировать в окончательном виде, прежде чем написать одно-единственное слово — развязку всего изобретённого или желанного впечатления на основе композиции… План является в самом точном смысле целым, от которого нельзя отнять или прибавить к нему ни одного атома, не разрушив всё» [1218]. Однако есть писатели, которые ввиду исключительных внешних или внутренних обстоятельств не придерживаются этой нормы и которые, как, например, Достоевский, испытывают постоянные колебания, вносят постоянные изменения в экспозиции, мотивировки и характеристики. Так и Д. В. Григорович свидетельствует в отличие от практики тех, кто всегда исходит из строго обдуманного плана: «Поэма, роман, повесть редко выходят в свет такими, как их придумал автор в первоначальном виде. Писателю с призванием как бы заранее дана программа того, что он должен писать, и рядом с этим как бы тайно вложена в него сила, заставляющая исполнить то, что ему предназначено; если произведение пишется в периоды нервного возбуждения, эта внутренняя сила немедленно вступает в права свои; она часто отбрасывает то, что задумано было прежде, и в результате является неожиданно нечто новое, о чём не было помысла» [1219].
При условии, что автор ясно обдумал и зафиксировал свой план, фабулу, мы без труда поймём, откуда проистекает способность к импровизации больших сочинений и как надо объяснять целесообразность всего, данного через посредство вдохновения. Окончательное исполнение, если оно исходит из правды основного замысла и связано с глубокой концентрацией, наверняка ведёт от общего представления к частностям и концовке; оно означает последовательное вступление в центр внимания отдельных моментов, так что, даже когда художник кажется поглощённым ими, он не теряет идею целого. Конечно, посторонние ассоциации, вторгающиеся вслед за тем или иным представлением, могут привести к расширению первоначального плана или даже к изменению некоторых частей, но процесс развития, последовательный анализ общего от этого не нарушается. Так же происходит и тогда, когда говорим; мы без затруднений пользуемся сложными изречениями и цепью мыслей, не сознавая в начале слова и представления в этой связи, поскольку мы исходим из полноты основной мысли, включающей в зародыше части, которые разовьются позднее [1220]. В этом смысле можно сказать, что первое слово, которое мы пишем, уже предполагает и последнее или, по категорической формуле Эдгара По, что «в цельную композицию не следует вводить ни единого слова, которое прямо или косвенно не указывает на единственную цель» [1221].
6. ИМПРОВИЗАЦИЯ: СТИХ И ПРОЗА